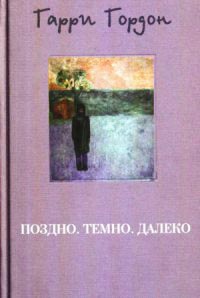— Нет, нет, оставайтесь оба здесь. Хартли, милая, он будет знать, где ты, он не подумает, что ты утонула. Пусть приходит сюда, повидает Титуса здесь. Титус здесь живет. Титус, ведь тебе на самом-то деле не хочется туда идти?
Титус, явно расстроенный, повторил:
— Она хочет домой. Она не хочет, чтобы он увидел письмо. Время еще есть. Я мог бы добежать туда за двадцать минут. Ведь это сразу за деревней?
— Ох, сбегай, пожалуйста, — взмолилась Хартли. — Дверь не заперта, ты просто…
— Или сбегать в отель? Куда ближе? Я сказал Титусу:
— А я хочу, чтобы он увидел письмо. И вы оба оставайтесь здесь. Что мы, его рабы? Я хочу освободить твою мать из этой клетки.
У Хартли вырвался горестный вопль.
— Почему вы хотите, чтобы он увидел письмо? — спросил Титус. — Я ничего не понимаю, это какой-то заговор. Да, вы сказали, что надеетесь, что она захочет повидать меня здесь, и все такое. Но я не думал, что вы готовы пустить в ход насильственные средства.
— А я как раз и намерен пустить в ход насильственные средства.
— Нет, нет! — Хартли вскочила и метнулась к двери. Я догнал ее, хотел схватить за плечо и надорвал вырез платья. Почувствовав это, она остановилась. Потом вернулась к столу, села и закрыла лицо руками. Титус сказал:
— Послушайте, это мне не нравится. Нельзя держать ее здесь против воли.
— Я хочу, чтобы она решила сама, без нажима.
— Сама? Это она не может. Она давно забыла, что значит свобода выбора. Да если вы будете ее здесь держать, она от страха не сможет думать. Вы не понимаете, что это такое, ей недолго и с ума сойти. Я, наверно, не понял. Может, вы так и не сказали, но я думал, вы с ней как-то договорились. Я думал, она вроде как подготовлена. Нельзя заставить человека сразу бросить человека, с которым прожил всю жизнь.
— Почему? Когда бросают кого-то, с кем прожил всю жизнь, обычно это делается именно сразу, потому что иначе это вообще невозможно. Я, помогаю ей сделать то, что она хочет сделать, но одна, без помощи, не может. Ясно?
— Не так чтобы очень.
— Она успокоится, соберется с мыслями, скоро, завтра.
— Завтра, здесь?
— Да.
— Вы продержите ее всю ночь?
— Да.
— А если он придет?
— Едва ли. Ты ведь меня спрашивал, так вот, могу ответить: я его не приглашал.
— О черт, что же он подумает?
— А мне в высшей степени плевать, что он подумает. Чем хуже подумает, тем лучше. Пусть думает все, что способно ему подсказать его гнусное воображение.
— Это и значит — разрушить до основания?
— Да.
— Ну и ну. — И после паузы: — По-моему, это непристойно. И мне не нравится, что вы говорите о ней, как будто она ребенок или душевнобольная. Я пошел купаться.
— Титус, не думай обо мне плохо… понимаешь…
— Да я не думаю о вас плохо, в каком-то смысле вы даже повергаете меня в восхищение. Просто сам бы я так не мог.
— Ты не побежишь за письмом?
— Нет. Да теперь уж, наверно, и поздно.
— И от меня не убежишь? — И от вас не убегу.
И вышел через заднюю дверь.
На улице свет уже померк. Тени от скал тянулись по траве длинные-длинные. Я не стал смотреть на часы. Я подсел к Хартли.
Она отняла руки от лица и сидела мешком, уставясь глазами в стол. Надорванный вырез платья отогнулся треугольником. Мне был виден глубокий красноватый мазок загара от шеи вниз. Были видны ее бюстгальтер и округлость стянутых им грудей. И ее частое, почти горячечное дыхание.
Это и вправду было непристойно. С той самой минуты, как возник мой план, я был намерен удержать Хартли здесь, если потребуется — силой; но подробностей я себе не представлял и почему-то надеялся, что стоит ей увидеть в моем доме Титуса, и в ее психике произойдет скачок, интуиция, нужная догадка: она увидит свою свободу и возможность жить со мной и с Титусом. А уж если впереди замаячит свобода, вполне можно надеяться, что она придет ко мне, даже при том, что Титус — величина неизвестная и нельзя знать, как он распорядится собственной свободой. Но пожалуй, я, вдохновленный его столь своевременным появлением, действительно поторопился. Последние полчаса были так ужасны, что решимость моя поколебалась и мне стало казаться, что лучше, пожалуй, все же отправить ее домой. Но как теперь это сделать? Бен почти наверняка вернулся и прочел мое письмо, и… моя затея так блестяще удалась, что я и сам оказался в ловушке. Теперь я посмотрел на часы. Было двадцать пять минут десятого.
Я взял ее руки, положил их одну на другую и прикрыл своей. Потом заглянул ей в лицо. Она не плакала. С невыразимым облегчением я встретил не тот злой, тревожный взгляд, которого так страшился, а другой взгляд, спокойный, мягкий и задумчивый; и она, хоть и была грустна, но казалась моложе, больше напоминала себя прежнюю и выглядела живее, умнее, не такой апатичной. Я снова почувствовал себя увереннее. Возможно, это в ней проснулась свобода. Возможно, мои расчеты оправдались. Хартли нужно лечить, вылечить ее душу. И в эту минуту я решил, что проявить сейчас слабость было бы роковой ошибкой. Нет, я должен идти напролом, должен быть тем героем, что поверг Титуса в восхищение.
— Я не отпущу тебя, Хартли, ни сегодня, ни вообще никогда. Сегодня-то тебе, во всяком случае, нельзя возвращаться. Письмо перехватывать поздно, он его уже прочел. Пусть думает что хочет. Зачем тебе ему лгать, бояться его? Мне это так больно, просто невыносимо. И Титусу тоже. Титус хочет быть с тобой, а с ним — нет. Скажи сама, что из этого следует? Титус мне по душе, а я ему. Почему бы Титусу не быть моим сыном, почему бы тебе не быть моей женой? Это судьба, Хартли, судьба. Почему Титус объявился именно сейчас, почему он пришел ко мне? Почему я вообще здесь оказался? Видишь, как поразительно все сошлось. Титусу так хотелось к тебе, но в «Ниблетс» он бы не пошел, ни за что. И ты была рада егоувидеть, разве нет? И смогла с ним поговорить. Вы о чем говорили? — О собаках.
— О собаках?
— Он вспоминал, какие у нас были собаки, когда он был маленький. Он любит животных.
— А-а, ну вот и хорошо. Хартли, вздохни свободно, забудь, сбрось это все.
— Что сбросить?
— Да ты сама знаешь, ну, это бремя, эту никчемную бесплодную преданность, это бессмысленное самопожертвование. Ты ведь и ему портишь жизнь, покончи с этим, покончи с ним. А то ты какая-то полумертвая.
— Да, — произнесла она задумчиво. — Я чувствую себя полумертвой. Да… часто. Наверно, многие так. Но жить можно и полумертвой, и даже находить в жизни кое-что хорошее.
Ее задумчивый голос звучал для меня музыкой. Я задел в ней какую-то струну. Она заговорила об этом, о самом главном. Моя спящая красавица пробуждается.