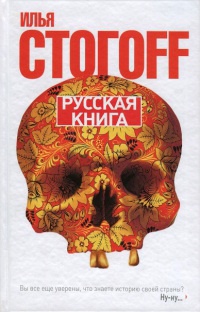– Как же я тебе рад, дзалиан михариа! – с фальшивым восторгом сказал он, все еще не выпуская руку Буша из своих. – Что будешь пить?
– Если можно, чаю, – робко сказал Буш, отвыкший от жаркого темперамента Грузина и слегка ошеломленный бурным приемом. – И поесть чего-нибудь, сутки уже не ел.
Грузин хлопнул себя по лбу, лицо его выражало сокрушенное отчаяние:
– Ну конечно, поесть, какой же я дурак!
Он решительно двинул в кухню, ступил в воду прямо в тапках – черт с ним со всем! – открыл холодильник, стал вытаскивать и класть на поднос мясные нарезки, масло, сыр – все настоящее, запрещенное, европейское. Потом вытащил из буфета булочки с маком, добавил сюда же… Вспомнил что-то, посмотрел на сантехника, который возился тут же.
– Чайник можно поставить?
– Не советую, коротнет, – отвечал Василий.
– Вина выпьем, – решил Грузин, – от вина никому еще плохо не было.
Он взял поднос и пошел с ним вон из кухни. Но перед этим, правда, вытащил из штанов мобильник, соединился с Хабанерой, сказал два слова: «Он здесь!» – и уж только потом, пританцовывая, вышел вон. Василий проводил его задумчивым взглядом.
В коридоре Грузина перехватил Аслан. Встал на дороге, глядел прямо в лицо глазом волчьим, прищуренным.
– Чего ты? – грубо сказал Кантришвили.
– Сдать доктора хочешь? – прямо спросил Аслан. – Хранителям сдать?
– Не твое собачье дело, – отвечал Грузин и хотел идти дальше. Но худощавый Аслан как-то так стал в широком коридоре, что обойти его никак было нельзя, разве что выстрелив прямо в лоб. Но стрелять в лоб Аслану Грузин был не готов, да и не из чего было, пришлось притормозить.
– Удивляюсь я на тебя, Грузин, – сказал Аслан, вместо привычного обращения «хозяин» употребив кличку. – Ты кавказский человек, законы наши знаешь и хочешь отдать гостя?
Грузин переменился в лице страшно, секунду казалось, сейчас ударит Аслана по голове подносом. Но сдержался, черты лица его разгладились.
– Это политика, понимаешь, – сказал он неожиданно просительным голосом. – Государственные интересы, понимаешь? Страна в опасности, понимаешь?
– Да хоть бы весь мир взорвался, – сказал Аслан, – законы наши крепки, крепче, чем смерть. Если ты будешь соблюдать законы, я могу стоять за тебя до конца. Если не будешь, не смогу стоять за тебя до конца.
Грузин спиной привалился с подносом к стене, на Аслана не смотрел, смотрел куда-то в сторону, в пустоту.
– Что скажут люди потом? – продолжал Аслан, не отводя огненного взора. – Что Грузин не человек, что гостя отдал, друга отдал, доктора отдал, который его от болезни спас… Что Грузин предатель, что слова доброго о нем нельзя сказать, что забыть надо само его имя. А если Грузин выстоит, если не отдаст доктора, если даже погибнет – вечная память ему будет среди людей и вечная благодарность…
– Хватит, – сказал Грузин, глаза его странно блестели. – Хватит, я понял.
– Так что ты решил, Грузин? – не отступал Аслан.
– Пойдем есть, пить, все будет хорошо. Все будет как надо…
И Грузин прошел сквозь Аслана, как будто и не стоял никто на пути. И была в нем сейчас такая правота и решимость, что и сам Аслан, секунду поколебавшись, пошел в комнату следом за ним.
В этот раз Грузин был в ударе. Они ели, пили, а он развлекал гостя смешными и страшными историями из жизни, байками, анекдотами, даже песни пел, грузинские песни, какие же еще?
«Сакварлис саплавс ведзебди-и
Вер внахе дакаргулико-о
Гуламосквнили втироди-и
Сада хар чемо Сулико-о-о?…»
Жаль, не было тут телевизионщиков, жадных до зрелищ и разговоров, вот уж нашли бы, чем поживиться. Но и без телевизионщиков было им хорошо, было замечательно, даже хмурый Аслан немного оттаял, скупо улыбался искрометным шуткам хозяина. И Буш, проведший бессонную ночь, немного взбодрился, не клевал уже носом, с аппетитом пробовал наспех состряпанные Грузином бутерброды.
Наверное, поэтому – от песен, шуток, громких разговоров – они расслабились, не услышали, как медленно, тихо-тихо отворилась запертая входная дверь и в квартиру бесшумно скользнул капитан Сорокапут – даже Аслан с его волчьим слухом не услышал. Впрочем, нет, услышал что-то, насторожился, но Грузин кивнул ему: «Все нормально, это сантехник» – и Аслан снова расслабился, пил, ел, слушал.
Первым делом Сорокапут заглянул в кухню, но никого там не увидел, кроме свежепочиненного крана и медленно сохнущих лужиц на полу. Той же бесшумной тенью Сорокапут прошел по коридору и безошибочно вышел к дверям гостиной, откуда доносились громогласные крики Грузина.
Капитан подошел к двери и осторожно, таясь, глянул в комнату одним глазом. Тут в гостиной, он увидел накрытый стол, тарелки, множество тяжелых винных бутылок, полных темным, как кровь, вином, увидел поющего Грузина, улыбающегося Буша и Аслана, глядящего прямо на него и поднимающего свой пистолет.
Но, видно, в этот раз сплоховали чеченские боги. А то ли, может, предки до седьмого колена по мужской линии и до восьмого – по женской отвернулись от Аслана, лишили своего покровительства за бесчестное убийство Лечи Кутаева, который, если разобраться, был виноват всего-навсего в том, что стал къонахом и хотел сделать мир лучше.
Так или по-другому как-то, но капитан стоял уже с поднятым пистолетом в тот миг, когда Аслан свой еще поднимал. И выстрелили они почти одновременно, только капитан стрелял живой, а Аслан – уже мертвый. И мертвая рука изменила чеченцу, не смогла отомстить за хозяина: выпущенная из пистолета слепая пуля не настигла хранителя, зря разбила драгоценную вазу эпохи Тан в мелкие осколки, в труху, в прах – но никому от этого уже не было ни вреда особенного, ни, подавно, пользы.
Конечно, Грузин не сплоховал, не стал терять время на глупые вопросы вроде: кто ты такой да за что убил моего охранника? Нет, ничего этого не спрашивал Грузин, просто метнулся к комоду, где хранился у него пистолет – именной, с серебряной рукояткой, подаренной лично министром внутренних дел с формулировкой: «За вклад в общее дело». Отличный был пистолет, пристрелянный, безотказный, сам ложился в руку.
С этим-то пистолетом в руке и настигла Грузина смерть, вгрызлась в мощную спину, швырнула слепо к золотым с серебром обоям, повалила на картины ручной европейской выделки с красивыми полуголыми дамами, и все так натурально, по-старому – специально для него постарались средневековые художники, французы да голландцы. Но картины не удержали могучего тела, в котором еще на пятьдесят лет было жизни как минимум. Грузин упал, обрушился на дубовый пол, хрустнул под ним паркет, затрещал, умирая: сколько сил, времени, нервов стоило его положить, люди совсем потеряли способность к настоящему ремеслу, мастеров своего дела теперь только среди воров и встретишь, а впрочем, не о том был стон Грузина, стон последний, предсмертный.