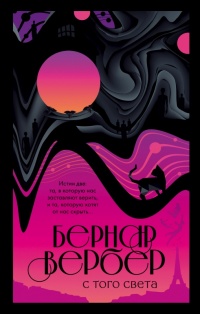Глава V
В сентябре по возвращении в Париж мы погрузились в драму, которая в течение двух с половиной лет определяла всю нашу жизнь: Испанская война. Войска Франко не смогли одержать скорую победу, на которую рассчитывали правые, но они не были разбиты с той быстротой, на которую надеялись мы. Поход мятежников на Мадрид был сломлен, однако они закрепились в Севилье, Сарагосе, Овьедо. Почти вся армия — девяносто пять процентов, почти весь государственный аппарат перешли на сторону Франко: чтобы защититься, Республика могла рассчитывать лишь на народ.
В мощном порыве он устремился ей на помощь. Рассказы, которые мы читали в газетах, сообщения, поступавшие нам от Фернана и его друзей, воспламеняли наше воображение. В Мадриде, в Барселоне рабочие штурмом брали казармы и вооружались сами; жители Мадрида водрузили над казармой Монтана красное знамя. Крестьяне доставали со своих чердаков старые ружья и мушкеты. В городах и деревнях ополченцы, за неимением оружия, упражнялись с палками; в их рядах было много женщин, они готовы были сражаться с тем же пылом, что и мужчины. Против танков Франко dinamiteros[70] бросали гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Героизм народа с голыми руками должен был преградить путь вооруженным дисциплинированным войскам, которые бросали против него Собственники, Церковь, Финансисты: это была потрясающая эпопея, которая, как мы считали, касалась нас непосредственно. Для нас не было ближе страны, чем Испания. Фернан был в числе лучших наших друзей. Под солнцем Мадрида мы разделили ликование первого республиканского лета; мы были причастны к радостному волнению Севильи после бегства Санхурхо, когда толпа устраивала пожары в аристократических районах и пожарные отказывались их тушить. Мы своими глазами видели самодовольную надменность буржуазии и кюре, нищету крестьян и желали, чтобы Республика поспешила выполнить свои обещания. В феврале голос Пассионарии укрепил эти чаяния: поражение мы восприняли бы как собственную катастрофу. Хотя, впрочем, мы знали, что Испанская война ставит на карту и наше будущее; левая пресса уделяла ей столько внимания, словно это было французским делом, а оно действительно так и было: нельзя ни в коем случае допускать появления у нас на пороге нового фашизма.
Мы были уверены: этого не случится; никто в нашем лагере не сомневался в победе республиканцев. Помню один ужин в испанском ресторане, о котором я рассказывала и куда приходили исключительно республиканцы. Молодая испанка вдруг поднялась и продекламировала стихи во славу своей страны и свободы; мы не понимали слов — один из наших соседей передал нам общий смысл, — но были взволнованы голосом молодой женщины и выражением ее лица. Все присутствующие встали и провозгласили: «Да здравствует Испанская республика!» Все верили в ее близкую победу. Пассионария бросила фашистам вызов: «No pasaran!»[71], который разносился по всей Европе.
Между тем у нашего энтузиазма было и другое лицо: гнев. Чтобы победа стала скорой, Франции следовало бы немедленно броситься на помощь испанскому народу, послать ему пушки, пулеметы, самолеты, винтовки, которых там отчаянно не хватало; но, несмотря на торговый договор, который связывал Испанию и Францию, Блюм с первых дней августа высказался за «невмешательство», он отказывался поставлять Республике оружие и даже закрыл границу для частных перевозок. 5 сентября пал Ирун, потому что его защитникам нечем было сражаться, в то время как в нескольких сотнях метров два состава с предназначенными Испании винтовками были остановлены французскими властями. Из-за этого эмбарго пала Талавера-де-ла-Рейна, франкисты продвигались в Эстремадуре и в Гипускоа. Нейтралитет Блюма был тем более возмутителен, что Гитлер и Муссолини открыто поставляли мятежникам людей и снаряжение. 28 августа на Мадрид упала первая бомба, сброшенная немецким «юнкерсом». Мы восхищались Мальро и его эскадрильей, вставшими на службу Республики: но как они в одиночестве смогут противостоять нацистской авиации? На большом пацифистском митинге в Сен-Клу Блюма встретили криками: «Самолеты для Испании!» Всеобщая конфедерация труда, коммунисты, большая часть социалистов требовали открыть пиренейскую границу. Однако другие социалисты и радикал-социалисты поддерживали Блюма; прежде всего, говорили они, необходимо сохранить мир; правда в том, что, не питая любви к фашизму, они еще больше опасались революционного подъема, который вызывал Frеnte popular. Эти разногласия отражались в газетах, которые мы читали. В «Вандреди» Геенно опять отказывался «пожертвовать миром ради революции», в то время как Андре Виолис и даже пацифист Ромен Роллан связывали надежды на мир с надеждами Испанской республики. Большинство сотрудников «Канар аншене» выступали за вмешательство; Галтье-Буасьер оспаривал эту идею. Мы, как и все, ненавидели войну, но не могли смириться с мыслью, что республиканцам отказывают в нескольких десятках пулеметов и нескольких тысячах винтовок, которых хватило бы, чтобы победить Франко. Осторожность Блюма возмущала нас, мы не думали, что она послужит делу мира. С какой тревогой в начале августа мы узнали, что мятежники уже у ворот Мадрида, в ноябре — что они заняли университетский городок и что правительство эвакуировалось в Валенсию! А Франция не шелохнулась! К счастью, СССР проявил решимость; он отправил танки, самолеты, пулеметы, и ополчение при поддержке Интернациональных бригад спасло Мадрид.
Когда началась битва за Мадрид, Фернан не пожелал больше оставаться в Париже, он решил ехать сражаться. У нас с Панье снова возникли разногласия; в решении Фернана он видел только фанфаронство; мадам Лемэр тоже считала, что ему следовало заботиться о жене, сыне и оставаться с ними, вместо того чтобы изображать героя. Они были из тех, кто, принимая сторону Республики, вовсе не желал видеть, как гражданская война перерастает в победоносную Революцию. Мы от всего сердца одобряли Фернана; вместе со Стефой и многочисленными друзьями мы проводили его на вокзал. Вместе с ним уехал и художник Берманн. На перроне все были очень взволнованы: республиканцы победят, но когда? И какою ценой?
Франкистский мятеж, в значительной степени порожденный Муссолини, усиливал надежды «оси», к которой в результате германо-японского пакта присоединилась Япония. Все французские правые аплодировали франкистским победам; «западные интеллектуалы», в частности, Максанс, Поль Шак, Миомандр, Боннар, бурно приветствовали их. Я привыкла, не моргнув, слушать, как мой отец восхваляет здравый смысл «Гренгуара» и просвещенный патриотизм Стефана Лозанна. Но я, как в юности, молча приходила в ярость, когда мои родители и кузены Валлёз смаковали жестокости, приписываемые их прессой «Frеnte crapulare», — тысячи монашек, изнасилованных на ступенях церквей, мальчики из церковного хора со вспоротыми животами, сожженные соборы, или когда они восхваляли героизм кадетов Алькасара. Мне было трудно понять, даже приняв их точку зрения, как они могли радоваться успехам нацистских пикирующих бомбардировщиков. Их газеты исходили злобностью; развернутая в «Гренгуаре» клеветническая кампания против министра внутренних дел Саленгро довела его до самоубийства. Крупные предприниматели поднимали голову; они хотели пересмотреть уступки, на которые их заставили пойти июньские забастовки. Между тем отмечался определенный промышленный подъем. Благодаря сорокачасовой неделе субботним утром можно было увидеть пары на двухместных велосипедах, направлявшиеся за город. Они возвращались в воскресенье вечером с букетами цветов и листвы, прикрепленных к рулю велосипеда. Группы молодежи с рюкзаками на спине располагались лагерем в окрестных лесах. Чего-то удалось-таки добиться, и это закрепилось. Левые, хотя и расколотые по вопросу вмешательства в дела Испании, сохраняли свои чаяния.