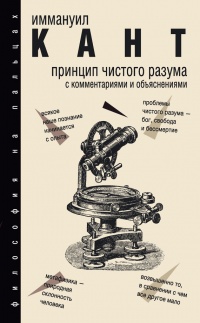«Пожеланиями промышленными Сократ называет те, которые свойственны промышленникам, людям, везде и во всем ищущим выгоды и прибыли. Эти пожелания не необходимы, но подчиняются законам и могут быть ограничены ими. Кроме этих, под категорией пожеланий не необходимых, есть еще другие, враждебные промышленным, или расточительные. О них-то здесь и говорится» – отмечал Платон.
– Да.
– Обращаясь с щеголями, исполненными тех пожеланий, о которых мы сейчас рассуждали, он, по ненависти к скупости своего отца, стремится ко всякой разнузданности и к тому роду удовольствий, но, благодаря лучшей природе, чем какая у тех развратников, влекомый в обе стороны, становится в средину между обоими способами жизни и, пользуясь, как говорят, довольно умеренно, тем и другим, живет и не скупо, и не противозаконно, и делается из олигархического демократическим.
– О подобных людях, действительно, было и есть такое мнение, – сказал он.
– Положи же, – продолжал я, – что у этого человека, когда он дожил уже до старости, есть в свою очередь сын-юноша, вскормленный в его правилах.
– Полагаю.
– Да положи и то, что с сыном то же случилось, что с его отцом, что он увлекается ко всякому беззаконию, которое руководители его называют совершенной свободой. Тогда как отец и другие ближние помогают ему идти в пожеланиях серединою, противоположные помощники, те сильные волшебники и образователи тирана, надеются не иначе удержать в своих руках юношу, как зародив в нем коварно какую-нибудь любовь, которая двигала бы пожеланиями праздными, расточающими готовое, – и вот, зарождают в душе его большого крылатого трутня. Или такая любовь, думаешь, есть что-нибудь иное?
В этом диалоге Платона понятия «трутень» или «человек с жалом» обозначают человека, вредного государству.
– Не иное, сказал он, но именно это.
– Итак, когда вокруг него шумят разные пожелания – раздушенные, распомаженные, увенчанные, упившиеся, окруженные толпою растрепанных удовольствий, и когда вырастив, вскормив до последней степени жало похоти, сообщают его трутню. Тогда оруженосцем его становится безумие, тогда. неистовствует этот настоятель души и, если находит в себе какие-нибудь мнения, или добрые расположения, знакомые еще с стыдом, то убивает и извергает их из себя вон, пока не истребится рассудительность и не удовлетворится привзошедшее безумие.
– Ты описываешь рождение совершенно тиранического человека, – сказал он.
– Не потому ли и в древности, – заметил я, – любовь называли тираном?
– Должно быть, – сказал он.
– Да и в мыслях человека опьяневшего – нет ли тоже чего-то тиранического, друг мой? – спросил я.
– Есть.
– Но безумный то и сумасшедший чувствует в себе решимость и надежду управиться не только с людьми, но и с богами.
– Конечно, – сказал он.
– Итак, тот человек будет подлинно тираническим, – заключил я, – который или по природе, или по занятиям, или по тому и другому, окажется пьяницей, слишком влюбчивым и меланхоликом.
– Без сомнения.
– Происходит-то такой человек, как видно, так. Но как он живет?
– Отвечу тебе поговоркой шутников: «Вот сам и отвечай».
– Конечно, отвечу, – продолжил я. – Думаю, что после этого бывают у них праздники, пирушки, увеселения, подруги, и прочее, чем относительно всех движений души распоряжается в доме тираническая любовь.
– Необходимо, – сказал он.
– Не разрастаются ли там каждый день и ночь бесчисленные и сильные пожелания, которые требуют многого?
– Конечно, бесчисленные.
– Следовательно, если есть какие доходы, – они тотчас истрачи-ваются.
– Как же не истрачиваться?
– А за этим-то займы и уменьшение имения.
– Конечно.
– Но когда ничего не остается, – не необходимо ли гнездящимся в них пожеланиям издавать непрестанные и громкие вопли, – и они, будто преследуемые жалами как других пожеланий, так особенно самой любви, которая предводительствует ими, в значении свиты, приходят в неистовство и смотрят, у кого есть что-нибудь такое, что можно отнять обманом или силой?
– Непременно, – сказал он.
– Поэтому не необходимо ли им отовсюду собирать, либо иначе терпеть величайшие страдания и скорби?
– Необходимо.
– Стало быть, не справедливо ли, что как позднее превзошедшие в него удовольствия были более жадны, чем прежние, и отжимали все, что тем принадлежало. Так и он, будучи моложе отца и матери, обнаруживает больше жадности, и как скоро растратил собственную долю, присваивает и отнимает достояние отцовское?
– Да как же, – сказал он.
– А если бы не позволили ему, то не решился ли бы он на первый раз украсть и обмануть родителей?
– Без сомнения.
– Когда же был бы не в силах, – не прибег ли бы потом уже к грабительству и насилию?
– Я думаю, – сказал он.
– А если бы старик и старуха стали противиться и вступили с ним в борьбу, почтеннейший, то поостерегся ли бы он и удержался ли бы, чтобы не сделать чего-нибудь насильственного?
– Не очень ручаюсь я за родителей такого сына, – сказал он.
– Но, ради Зевса, Адимант, неужели кажется тебе, что за недавно полюбленную и не необходимую подругу он подверг бы побоям издавна любимую и необходимую мать, или за красивого, недавно полюбленного, не необходимого друга, решился бы бить некрасивого, но необходимого старца-отца, предшествовавшего по времени его друзьям, и заставил бы этим рабствовать тех, в чей дом захотел бы ввести их?