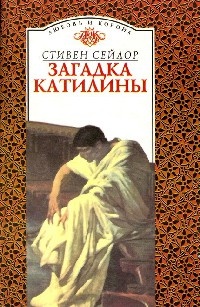— Если ты ее хочешь, молодой Мессала, то, конечно, ты можешь ее взять. Я ни в чем не отказываю гостям. Любая услада, какая только отыщется в моем доме, — твоя без лишних вопросов. Но ты не должен вести себя, как школьник, прячась в этой кладовке. Наверху полно удобных комнат. Пусть она проводит тебя туда. Прогони ее по дому голой, если хочешь, — оседлай ее как лошадку! Ей это не в диковинку. — Он снова дотронулся до нее, водя рукой так, словно хотел оставить метку на ее обнаженных грудях. Девушка с трудом переводила дыхание и дрожала, но стояла, не шелохнувшись.
Он отвернулся и, казалось, собирался уходить, но оглянулся снова:
— Но особенно не задерживайся… Сулла простит мне, если ты пропустишь пляску, но после нее Метробий исполнит новую песнь, которую сочинил… в общем, тот подхалим или этот — неважно; разве упомнишь все их имена? Этот несчастный дурак опять будет весь вечер подлизываться. Насколько я понимаю, эта песня — дань признательности богам, ниспославшим человека, который покончил с гражданской войной: «Сулла, любимец Рима, спаситель Республики» — по-моему, начинается как-то так. Думаю, и дальше все так же одуряюще благочестиво, вот только… — Хрисогон улыбнулся, не разжимая губ, и усмехнулся утробным, раскатистым смешком, который он, казалось, придержал при себе, как человек, позвякивающий зажатыми в кулаке медяками. — Вот только, по словам Метробия, он взял на себя вольность и добавил несколько непристойных стихов собственного сочинения, достаточно скандальных, чтобы стоить юному автору головы. Вообразите себе глупую физиономию поэта, когда он услышит, что его гимн обратили в прямое поношение Суллы, который, разумеется, тут же подхватит шутку и начнет подыгрывать: затопает ногами и прикинется разъяренным, — такие шуточки он обожает. Поверь мне, Руф, это будет самое яркое событие вечера — по крайней мере, для кое-кого из нас. Сулла будет страшно разочарован, если ты не разделишь нашего веселья. — Хрисогон вкрадчиво усмехнулся, пристально поглядел на парочку, затем удалился и затворил за собой дверь.
Никто не пошевелился. Зыбкий свет лампы ласкал гладкие очертания девичьих бедер и ягодиц. Наконец она нагнулась и подобрала платье. Исполнившись решимости, широко раскрыв глаза, Тирон выбрался из-за моей спины и помог ей одеться. Руф усердно смотрел в сторону.
— Хорошо, — нарушил я наконец молчание. — Мне кажется, что сам хозяин дома позволил нам подняться наверх. Готовы?
Глава двадцать пятая
Дверь, за которой исчез Хрисогон, вела в короткий коридор. Слева узкий проход заворачивал на шумную кухню, где вовсю кипела работа. Полог, которым был прикрыт поворот направо, куда только что свернул Хрисогон, все еще колыхался. Девушка подвела нас к двери в конце коридора, за которой мы обнаружили винтовую лестницу с каменными ступеньками.
— Есть и другая лестница; она ведет в зал, где пирует хозяин, — шепнула она. — Очень пышная, из прекрасного мрамора, со статуей Венеры в центре. А по этой ходят рабы. Если на кого-нибудь наткнемся, просто не обращайте на них внимания, пусть они даже посмотрят на нас с недоумением. А еще лучше, как следует меня ущипните, чтобы я завизжала, и притворитесь пьяными. Они решат, что дела плохи, и тогда оставят нас в покое.
Но на ступеньках мы не встретили никого; пусто было и в коридоре наверху. Где-то внизу глухо гудели флейты и пели лиры, то и дело до нас доносился взрыв аплодисментов или смеха, которыми, по всей видимости, поощрялось искусство Сорекса, но на верхнем этаже было сумрачно и тихо. Пышно украшенная прихожая была весьма широка; в нее выходили просторные комнаты с высокими потолками, обставленные с еще большей роскошью. Казалось, что все поверхности покрыты коврами, драпировками, инкрустациями и картинами. Куда ни падал взгляд, всюду буйствовали краски, ткани и формы.
— Какая безвкусица! — заметил Руф с истинно аристократическим презрением. Цицерон, пожалуй бы, с ним согласился, но впечатление безвкусицы оставляла не сама обстановка, а то, что она была так явно выставлена на показ. Больше всего я был поражен тем постоянством вкуса, с каким Хрисогон приобретал только лучшие и самые дорогие произведения искусства и ремесленные изделия: украшенное чеканкой серебро, делосские и коринфские бронзовые сосуды, вышитые одеяла, ворсовые ковры с Востока, покрытые изящной резьбой, инкрустированные перламутром и лазуритом столы и кресла, затейливые и яркие мозаики, превосходные мраморные статуи и легендарные картины. Вне всяких сомнений, все эти творения принадлежали прежде жертвам проскрипций; в ином случае для того, чтобы собрать столько выдающихся и разнородных предметов, не хватило бы и целой жизни. И все же никто не сказал бы, что Хрисогон грабил несчастных вслепую. Пусть другие забирают мякину; себе он отбирал только лучшее; у него был наметанный глаз раба, некогда принадлежавшего богачу и мечтавшего о свободе и роскоши. Я был рад, что с нами нет Цицерона: зрелище награбленного великолепия, которым окружил себя вольноотпущенник Суллы, доконало бы его и без того слабый кишечник.
Коридор сузился. Комнаты становились все менее броскими. Девушка подняла тяжелый полог, позволяя нам пройти под ним; полог опустился, и доносившиеся снизу звуки остались позади. Переменилась и обстановка: мы вдруг снова оказались в доме со скромно оштукатуренными стенами и закопченными потолками. Здесь находились служебные комнаты: хранилища, кельи рабов, мастерские, но даже здесь высились груды трофеев. По углам стояли корзины, куда были свалены бронзовые сосуды, к стенам, точно дремлющие стражи, притулились скатанные ковры; кресла и столы были обернуты тяжелой тканью и поставлены друг на друга, касаясь в некоторых местах потолка.
Девушка прокралась через лабиринт, вороватым взглядом посмотрела вокруг, затем жестом показала нам следовать за ней. И отогнула занавеску.
— Что ты делаешь наверху? — спросил ее раздраженный голос. — Или сегодня не было вечеринки?
— Ох, оставь ее в покое, — отвечал другой, шамкая набитым ртом. — Только потому, что Ауфилия приносит мне добавку и воротит нос от твоей безобразной рожи… но кто это?
— Не нужно, — сказал я. — Не вставайте. Сидите на месте. Сначала доешьте.
Двое рабов сидели на жестком полу и при скудном свете лампы ели капусту и ячмень из растрескавшейся глиняной посуды. Стены узкой комнатки были голыми; тусклое пламя превращало щели в пещеры и отбрасывало их согбенные тени на потолок. Я стоял в проходе. Тирон придвинулся сзади ко мне, глядя через мое плечо. Руф оставался снаружи.
Тощий брюзга фыркнул и хмуро посмотрел на еду.
— Как хочешь, Ауфилия, а эта комната слишком мала. Может, ты подыщешь себе пустую комнатку с большой кроватью, на которой вы поместились бы втроем.
— Феликс! — шикнул на него второй, толкнув приятеля в бок своим пухлым локтем, а другим показывая на меня. Феликс поднял глаза и побледнел, заметив кольцо на моем пальце. Он принял нас троих за рабов, которые подыскивают место, где поразвлечься.
— Прости меня, гражданин, — прошептал он, склонив голову. Они замолчали, ожидая, когда заговорю я. Только что передо мной сидели два человека: один — тощий и раздражительный, другой — упитанный и добродушный, с раскрасневшимися от еды лицами; только что они весело препирались с девушкой. В один миг они поникли и осунулись: лица их превратились в тупую маску, которую носит каждый раб всякого жестокого господина.