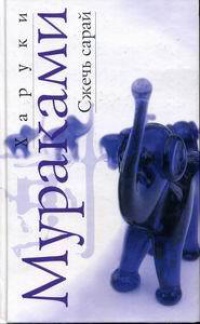Генри погрузился в мрачные раздумья: встретить Билла на взлете карьеры, поговорить о Мод и услышать, что за пять лет он ни капельки не изменился, — казалось, время потрачено зря, все эти годы с тем же успехом он мог проспать, хотя сон, мечта и есть реальность. Жизнь была абсолютно бессмысленна, внизу текли черные холодные воды Сены. Теперь на ее волнах уже не качались пустые бутылки, оберточная бумага, шелковые платки, картонные коробки, окурки и прочие свидетельства летней ночной жизни. Нимфы исчезли… Шпре, Темза, Изар, Тибр, Сена — реки были все те же, они унесли с собой много жизней, так много неведомых душ, искавших забвения в этих водах и обретших здесь свою единственную удачу.
Майская ночь была полна теплой дрожи. Генри бесцельно шел вдоль Сены — он просто не мог отправиться к Рю де Ришелье, — и смотрел на черные воды. Прислонившись к каменной ограде, он закурил. Генри долго стоял, размышляя над своей жизнью, которая никогда не казалась ему столь бессмысленной, как сейчас. Он чувствовал себя трагическим героем оперы, как музыкант Шонар — когда тот обнаруживает, что Мими не просто уснула, что она мертва. Занавес. Если уж Генри выбивало из колеи, то основательно.
Он пытался утешить себя невозможной мыслью о том, что стоит ему появиться в отеле «Иври» на Рю де Ришелье, как его встретит Мод — прямо на пороге, в черном шелковом кимоно с павлином на спине. Может быть, заранее приготовив пару коктейлей, чтобы стереть из памяти прошедшие пять лет. Она скажет, что Генри ни капли не изменился, лишь слегка окреп, а потом они займутся любовью, спокойно и здраво, как взрослые люди без иллюзий. Все станет совсем, в точности как раньше: изгнание словно сон, невозможность сбежать, ибо на земле нет убежища.
У тротуара мягко притормозил полицейский наряд, Генри не успел отреагировать — четверо выскочили из автобуса и прижали его к стене. Генри стоял лицом к камню, пока они обыскивали его так, словно рассчитывали найти в карманах артиллерийское орудие. Они потребовали удостоверение личности — к счастью, документы Генри были в порядке, ибо он был знаком с методами полиции.
— Где вы живете? — спросил один.
— Живу?
— Не валяйте дурака!
Этот одинокий трагический персонаж оперы, погруженный в собственные мысли, не успел выкрутиться, просто не мог улизнуть. Полицейские щелкнули наручниками у него за спиной и повели жертву к автобусу, где уже сидели пять молодых людей того же возраста. Все были одеты в просторные белые плащи, казалось, купленные в кенсингтонских секонд-хэндах. Генри понял, что этим вечером ловят человека, на которого его угораздило походить по описанию.
Допрос занял всю ночь, и мсье Морган вынес его с достоинством. Сначала он курил в комнате ожидания под наблюдением злобных полицейских глаз. Кусая ногти, он перебирал про себя все известные ему немецкие, английские, итальянские и шведские ругательства. Несмотря ни на что, в падении была какая-то сладость, особое упоение несчастьем. Его освободили от визита в отель «Иври» на Рю де Ришелье. Его освободили от необходимости выбора и от тоски. Позже Генри уверял, что никогда Сартр не был ему так близок, как той ночью.
Французские стражи порядка позаботились о Генри, освободили его от необходимости выбирать, создав эту неловкую ситуацию. Он не смог ответить на вопрос: «Кто вы, мсье?» — ибо именно этим вечером, после встречи с Биллом в «Боп Сек», Генри в кои-то веки одолели сомнения, он усомнился в себе самом. И как раз этой ночью его угораздило стать жертвой полицейского допроса, с которым он при иных обстоятельствах, в ином состоянии справился бы без труда, заставив самого опытного полицейского усомниться в существовании своем собственном, французских правоохранительных органов, ЕЭС, ООН, де Голля и всего Космоса.
Но той ночью мсье Морган был вовсе не в ударе и на каверзные вопросы о собственной персоне и жизни отвечал неуверенно, обтекаемо и неубедительно. Французские стражи порядка не любили богему и трагических оперных персонажей. Но нет худа без добра. Дотошная канцелярская крыса-архивариус отыскала папку с актом, в котором этот швед фигурировал в связи с происшествием в кафе «О Куан» на Монмартре, где полгода назад едва не был избит всемирно известный художник Сальвадор Дали. В тот раз мсье Моргана тоже допрашивали, но отпустили, когда знаменитый сюрреалист объяснил, что драка была заранее запланированным хэппенингом. Об этом освобожденный Генри-бульвардье не имел ни малейшего понятия, но решил держать язык за зубами.
Усы и брови старшего констебля поползли вверх, и он принялся учтиво извиняться, наконец-то усвоив, что на самом деле мсье Морган — выдающийся музыкант, богемный друг Сальвадора Дали, художника, весьма уважаемого констеблем. Сальвадор Дали воспевал испанский порядок и Франко, а это великое дело.
Ничего не понимающего Генри выпустили на свободу, прекратив изматывающий допрос и принеся извинения дорогому гостю. Будь старший констебль посмелее, он попросил бы автограф. Генри предложили подвезти до дома на полицейской машине, но тот вежливо отказался. Генри больше не чувствовал ни усталости, ни удивления. В большом мире, где танцуют большие слоны, может произойти что угодно. Хотя теперь все возможности были исчерпаны, опустошенный Генри чувствовал, что одиссея подошла к концу. На самой вершине Олимпа власти происходила политическая борьба, и де Голль переживал не меньшие внутренние терзания, чем Генри Морган. Последний же спокойно отправился к Рю Гарро на Монмартре, чтобы приготовить себе континентальный завтрак, бросая косые взгляды на свой чемодан. На нем не было места для новых наклеек. Килрой побывал везде.
У ностальгии появился свой штемпель: в тот день, когда перестает функционировать почта, кризис государства можно считать серьезным. Почту разносят из чувства долга и пафоса, это самоцель, категорический императив, питаемый символической платой за пересылку.
В день жестокого возвращения де Голля, когда он произнес речь о Войне, Порядке и Реванше, не показываясь никому на глаза, в этот день хаоса в ящик Генри Моргана — Рю Гарро 31, Париж IX, Франция — упало письмо.
Письмо было из Швеции, от Греты Морган, с улицы Брэнчюркагатан в Стокгольме. Расстроенная Грета с трудом подбирала слова. К письму была приложена вырезка из газеты с фотографией, запечатлевшей прекращенную на тот момент оккупацию Дома профсоюзов в Стокгольме на Холлэндаргатан. Собственно говоря, на фото были главные революционеры, среди которых, чуть в отдалении, стоял Лео Морган собственной персоной.
Но не это расстроило Грету. Появлением сына в газете она, скорее, гордилась. Умер дед, писала Грета без обиняков. Старый денди не болел и не проявлял особых признаков слабости — сверх характерных для его возраста. Дед был кремень, такие живут по меньшей мере лет девяносто. Но этой беспокойной весной, в очередной раз упрямо поднявшись по лестнице на пятый этаж, он рухнул в прихожей с бледной струйкой крови у рта. Отек легких, сказал домашний врач Гельмерс. Инфаркт, писала Грета. Похороны должны были состояться через неделю с небольшим.
У старика Моргоншерны не осталось детей, лишь невестка Грета и внуки Генри и Лео. Человек разумный, он обо всем позаботился заранее: в библиотеке, в секретере лежала папка с откровенным заголовком: «Когда я упокоюсь» и несколькими конвертами, адресованными юридической конторе, Грете, Генри и Лео Морганам. Конверт Генри все еще не был вскрыт.