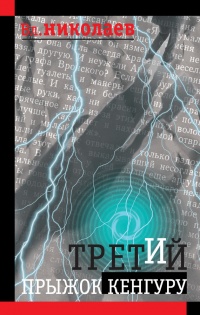Я бы не хотела попасть в рай, если бы мне сказали, что я не смогу захватить с собой гнев. Как и провести вечность в блаженстве, если сначала мне не позволят провести ее в ярости. Позвольте мне от лица всех кротких и смиренных заявить, что нам не хочется лежать в земле, если лежать придется бок о бок со всеми остальными. И если наступит конец света и мы воскреснем, я хочу, чтобы мы восстали с военным кличем, поднялись всей своей силой против того, что случилось с нами на этой земле. Чтобы мы уничтожали врагов и причины наших страданий, обчищали карманы и купались в крови.
Чего хочу лично я? Я хочу, чтобы у него была работа и он жил под вашей крышей. Я хочу, чтобы мы прекратили продавать рай под видом дома, которого у нас нет на земле. Я хочу, чтобы у моего гнева тоже была загробная жизнь. Хочу, чтобы он воспарил в совершенстве, на белых крыльях, хочу, чтобы у моих вопросов была жизнь после смерти, которая и станет для них ответом.
Но пока мой вопрос просто висит в воздухе, на полпути к голубому небу, воплотившись в долгом и непрерывном комарином «Почему?» И единственный ответ на него – голос моего отца. Он говорит то же, что говорил всегда, то же, что всегда говорил и ваш отец: «Да, жизнь несправедлива, но никто никогда и не обещал тебе, что будет иначе, с чего ты вообще это взяла».
19. Духовный оплот
Мой дед, Джордж Локвуд, строил дома – те самые, сколоченные на скорую руку, которые изуродовали нашу страну. И когда мы наконец переезжаем из приходского дома через девять месяцев после того, как переступили его порог, мы оказываемся в доме, который напоминает мне те поделки. Он располагается в сорока милях от Канзас-Сити, в маленьком городишке честолюбивых радикалов под названием Лоу-Ренс. Сорок миль – отличное расстояние для жизни отдельно от родителей: достаточно близко, чтобы мама привезла вам «лишний» яблочный сметанник, который она «случайно» сделала, но достаточно далеко, чтобы ваша жизнь была похожа на нормальную – даже несмотря на наличие соседа-хиппи с белыми дредами до талии, выращивающего салат на продажу.
Моя матушка – отличный союзник в постапокалиптической борьбе за ресурсы, а также при переезде. В таких ситуациях она вдруг обретает сверхчеловеческую мощь – прямо как те женщины, которые опрокидывают машину, когда под нее попадает ребенок. В некотором смысле именно это она и делает, за исключением того, что в машине также находятся все книги, которые есть у ребенка, а также все содержимое его шкафа и стремной детской косметички.
Пока Джейсон заносит коробки с давно потерянными книгами, а я группирую их на полках по настроениям: архипелаги книг об островах, наваленные друг на дружку неприличные книги, книги о параллельных мирах, выстроившиеся в ряд, – моя мама ищет в доме самые грязные отверстия и ныряет в них с радостным энтузиазмом поросенка, нашедшего самую глубокую лужу.
– ЧЕРНАЯ ПЛЕСЕНЬ! – триумфально кричит она, отмывая ванную, а затем: – Хотя нет, нет, это просто кто-то грязи нанес.
Но уже перед самым уходом, прихватив коробку своих чистящих средств, мама внезапно трезвеет:
– Просто чтобы ты знала, – говорит она таким серьезным и драматичным тоном, будто собирается сказать, что мой отец мне на деле не родной. – Луговые мыши могут устроить вам КОЛОССАЛЬНЫЕ проблемы, – она кивает в сторону окна в моем новом кабинете, из которого открывается вид на потрепанный ветром задний дворик. У нас почти акр земли, с ямой для костра, скамейкой для пикника и пирамидой из дров, кишащих коричневыми пауками-отшельниками.
– Вы живете буквально на грани цивилизации, – она бросает взгляд на мой стол, который Джейсон только что закончил собирать у задней стенки кабинета, откуда мне будет открываться беспрепятственный обзор на то, как орды луговых мышей осаждают мои владения. – И обязательно сиди прямо, когда работаешь, Триша, а то у тебя вырастет горб!
Что ж, она права – насчет цивилизации. В первое же утро в нашем новом доме я просыпаюсь на рассвете, завариваю чай в моей любимой кружке с надписью «Ухватись покрепче», захожу в кабинет и вижу в окно, как по ветвям деревьев неугомонно скачут, шастают и мечутся блестящие черные белки, похожие на лоскуты тени. Уголок нашего двора между беговой дорожкой и лесом часто патрулирует рысь, и еще я подружилась с большим чувственным скунсом по имени Крепыш. А однажды ночью крот, самое агорафобное из всех существ, прокладывает себе путь в наш подвал, взбирается по лестнице и скребется в дверь, чтобы я его выпустила. Даже звезды здесь кажутся особенно свирепыми, их лучи острые, как клыки или как мои мысли.
– Глянь, что я нашел в саду, – говорит Джейсон, вернувшись в дом после вечерне-выходных полевых работ, и показывает мне три огромных кристалла кварца, ясных и мутных одновременно, покрытых комками грязи. Я мою их в миске с теплой водой и добавляю в свою коллекцию, разрозненно лежащую на подоконнике.
– Что такое заповеди? – спрашивает меня Джейсон перед уходом на работу, сжимая в руках коричневый бумажный пакет с фруктами, потому что жизнь с моей матушкой превратила его в толстяка.
– «Надо пить воду. Я не верблюд Лоуренса Аравийского», – повторяю я. – «Сто крендельков – это не еда. Если буду думать о пингвинах – замерзну, начну думать про ад – взмокну. От переизбытка кофеина в лабораториях взрывались подопытные кролики. Если вдруг поймаю себя на том, что читаю в Википедии статью под заголовком „Смерть“, надо немедленно выйти из Интернета».
– И?
– «Я – единственное современное животное, у которого есть ключ от собственной клетки. Открой ее и выйди наружу».
В детстве я жила неподалеку от леса, где мы с друзьями играли в «Комнаты». Нам в голову не приходило назвать игру как-то иначе, хотя я и славилась своим воображением. Лес стоял на пустыре, рядом с нашим двухэтажным кирпичным домом, и землю в этом лесу фундаментом устилали коричневые, как торф, вьющиеся и колючие виноградные лозы. Это была мистическая и в то же время практичная игра: комнаты уже существовали среди деревьев, и наша задача заключалась в том, чтобы их распознать. Мы вытаскивали грязные камни из ручья и строили стены там, где, по нашему мнению, должны были быть стены, беспокойно расхаживали по своим территориями и срывали завесы из листьев там, где, как нам казалось, должны были быть окна. Где была дверь всем было ясно – она просто висела в воздухе. Мы входили в комнаты друг друга с величественным жестом, широко распахивая эту невидимую дверь, и преувеличенно задирали ноги, переступая порог, чтобы создать полное впечатление того, будто заходим в жилое помещение прямиком из лесу.
Наши комнаты всегда были произвольной формы, которая, тем не менее, была предопределена, как сонет. Я всегда выбирала себе комнатку-келью с узкими кроватями. Я выкладывала их изумрудно-зелеными подушками из мха и подолгу сидела среди опавшей листвы и прорезавшихся сквозь кроны косых солнечных лучей; и даже когда все мои друзья расходились по домам, я оставалась и продолжала упиваться ощущением прозрачных стен и крыши, сквозь которые я могла проходить призраком.
Интересно, что будет, если я выйду на улицу и снова попробую поиграть в эту игру, просто чтобы узнать, не растеряла ли я свою магию, но так и остаюсь сидеть в кабинете. В конце концов – это не заключение, если ты по своей воле не желаешь выходить из клетки. Я подтягиваю колени к груди, прижимаясь к ним подбородком, разглядывая сложенные вокруг меня книги, и думаю: «Чья же это история? Моя?»