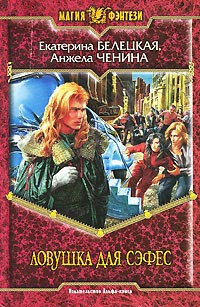Ознакомительная версия. Доступно 24 страниц из 120
Поэтому, когда Заяц сплевывает куда-то себе под ноги, чуть не зацепив Ириску, и выдыхает вместе с кислым дымом кислое же: «Че, Гунь, родаки доскреблись?» — ты обрадованно киваешь и начинаешь материться. Тебя просто на хрен рвет этими словами, потому что никаких нормальных, чтобы объяснить все происходящее, у тебя нет.
А потом ты как-то выдыхаешь, вяло ковыряешь качельный столб все той же отверткой, послушно глотаешь пойло из пластиковой бутылки, думая о том, что тебе сегодня никто не запретил этого делать… Даже не запретил! Вот тут на смену ошизению приходит злость. Примерно такая же, как у бати, только не особенно трезвая. И ты вливаешь в себя эту злость дальше — с каждым новым глотком ее становится все больше. Такое было у какого-то мультяшно-книжного героя, у Трусливого Льва или Железного Дровосека — сейчас фиг вспомнишь… И ты отрываешься от поликлиничной тусовки, чешешь напрямую домой, стараясь не протрезветь на ходу и не понимая, кто ты есть — Железный Лев или все-таки Трусливый Дровосек.
На подходе к дому тебя начинает колотить: не то от страха, не то… В общем, до родного сортира ты точно не дотерпишь. Хорошо, что на углу помойка есть. Такой бетонный короб, скобкой. У него всегда свадебные лимузины застревают, в окно четко видно. А сейчас — с помойки — не менее четко видны окна квартиры. В них темнота, и форточки наглухо задраены. И хрен бы со светом, отрубились — и шут с вами, но спиртягу-то выветрить надо? Но решительность куда-то делась, слилась, наверное. В общем, ты радуешься тому, что они спят или, может, куда свалили… Батя по вечерам никуда не шастает, это мама раньше могла…
Ты даже отгоняешь мысль о том, что может случиться, если эти двое начнут керосинить оптом. Главное, что сейчас никто не прискребется, утром посмотрим, что к чему, тебе проскользнуть бы и… Потому что никакой полуночи на фиг еще нет, а просто мокро, холодно, скользко и погано, снаружи и внутри… И ты ковыряешь домофонную дверь, понимая, что спать хочется сильнее, чем есть и кипешить по семейным поводам. На школу завтра, наверное, забьешь, надо же будет у бати выяснить, что это за бардак сегодня был и…
Бли-ин. Ядрены пассатижи, блин горелый! Именно что горелый — гарью пахнет на весь подъезд, от входной двери начиная… Ты сейчас в упор не вспомнишь: а не поставил ли тогда батин борщ на подогрев, мог ведь, в принципе, ты ж тогда в полной отключке был. И что теперь?
Ты снова клацаешь ключом о входную дверь. А она поддается сама, она открыта, хотя ты точно помнил, что батя тогда скрежетал щеколдой. А сейчас уже и не помнишь ни фига, просто шагаешь в… не в коридор, нет. В какое-то серое месиво из куцего воздуха, дыма, гари, спиртового запаха и страха… Это потом, при возрождении и выживании такое будет — безнадежный туман, первая стадия спячки, Старый скоро объяснит.
Но про Старого и остальной расклад ты еще не знаешь, когда шагаешь в этот коридор, на ощупь дергаешь дверь в родительскую комнату, не понимая, почему не работает выключатель, почему все заволокло этой штукой, почему нельзя дышать и губы вместо воздуха не ловят ничего… А потом дверь распахивается — будто ее толкнули изнутри. Но не батя, а огонь. Здоровенный такой вихрь чуть ли не с тебя ростом. Ты даже успеваешь его на секунду за человека принять — удивляешься, что это за чудило такое перекрученное стоит и горит. И все. Падаешь в темноту и стукаешься об темноту же.
4
Про дальнейшее мне было известно, Гунечку как раз в коридоре пожарные и обнаружили — с отверткой в руках, кстати сказать. Ударился макушкой о косяк — видимо, волной приложило, он же дверь распахнул, а помещение замкнутое, там волна воздуха как взрыв срабатывает. Лицо чудом не пожгло, а вот вырубило его о стену крепко. От того и близорукость потом спрогрессировала. Еще потеря сознания имелась, отек дыхательных путей, отравление продуктами горения и легкое алкогольное, пара-тройка крупных гематом и чего-то по мелочи. Мирские не сильно были уверены, что мальчишка выживет, но честно пытались откачать. Медицинские подробности меня мало интересовали, а про все остальное я не из учебников и статей знала, а из первых рук.
Зинка этот пожар на Волгоградке как несчастный случай заявляла, она ж эксперт, Гуньку со Старым из Русаковки в аэропорт Фельдшер подвозил, обратно их Васька-Извозчик встречал, по хозяйству Жека первое время помогала. Все мне что-нибудь про ученика да и говорили. Да и Гунькино житье в Инкубаторе я в общих чертах представляла. Понимала, какой именно техникой ему изувеченные легкие латали, могла вычислить, каким составом Старый собирался мальчишке память промыть, чтобы тот про соприкосновение с ведьминской жизнью намертво забыл. Предполагала, по каким каналам Гуньке новую семью искали, вроде как приемную, готовую сироту к себе взять и до совершеннолетия дотянуть. (У нас так положено, по Контрибуции: если что со Спутником при исполнении происходит, то сослуживцы его обязанности делят между собой. Единственное условие — при этом дележе близнецов не разлучать!)
В общем, техническая сторона ситуации мне была видна хорошо. Прямо как план на бумаге. Да только вот ни один план, никогда, за все мои три с лишним жизни, тютелька в тютельку не воплощался. Всегда какие-нибудь сбои были. Или наоборот, не сбои, а лучшие решения, импровизации так сказать. Так и тут: Старый уже обратные билеты из Ханты заказал, готовился Пашку в новую жизнь отправить, а этот неслух такое отколол, что после этого мальчишке одна дорога оставалась — в ученики. Причем обязательно с обетом молчания.
Вообще-то оброк нужен для того, чтобы мирской, если передумает и откажется от ученичества, не смог никому толком объяснить, что с ним было и где он пропадал. Если начнет говорить, так онемеет, оглохнет или ослепнет. Но уже не временно, а с концами. Жестоко, а что поделаешь. Dura lex,[9]так сказать… В Контрибуции это прописано, с ней не спорят.
Но в Гунькином случае все сложнее было. Старый сам ученику молчание выбрал: для того чтобы легкие с трахеей не тревожить на первое время и чтобы никто ничего лишнего не услышал.
Первое, что ты помнишь про себя потом, — одеяло. Тонкое, очень легкое, пахнущее лекарствами. Побелевшее до сине-сизого цвета, того же, что и казенный кафель на стенах. Кафель ты различить не можешь — зрение сильно упало, швы между плитками не видно, но то, что это кафель, почему-то знаешь. И про родителей знаешь тоже. Хотя, кто тебе сказал, когда, почему и тебе ли — а не над твоей безнадежно гудящей головой — не имеешь понятия. Но про маму и батю ты тогда уже точно в курсе. Веришь этому или нет, опять же непонятно. Вроде бы нет. Ты думаешь, что это знание уйдет — сразу после того, как перестанет болеть голова, прекратится дикая тошниловка, исчезнет желчь или что там у тебя скапливается под языком. Как только кончится болезнь — или боль? — кончится и эта правда. Все вернется на свои места. Тебя перестанет штормить, врачи снимут диагноз, а кто-то еще, в халате, или в форме, или просто так, придет и отменит слова про маму, батю, пожар и безнадежность.
Ты этого ждешь через всю свою мутоту, которая не отступает во сне. Ты снов толком не видишь — даже сквозь них чувствуешь боль или что-то похожее. С ней и с этим ожиданием засыпаешь, в них спишь и в них же просыпаешься. Смотришь на то, что можешь разглядеть: угол тумбочки, белый кант вокруг розетки, перекрученный серпантином провод — тоже белый, но в каких-то ржавых крошечных пятнах. Они похожи на муравьев, только не шевелятся. Иногда, правда, подрагивают — то ли от твоей боли, то ли от того, что глаза сильно слезятся. Но ты смотришь изо всех сил. Даже пытаешься думать: о том самом витом проводе или блеске кафеля. Ты их замечаешь.
Ознакомительная версия. Доступно 24 страниц из 120