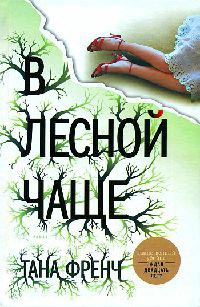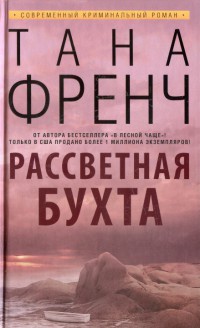очень вырос. Ты запретил Питеру и Джейми издеваться над тем несчастным мальчуганом, как уж там его звали? Он еще очки носил, и у него была ужасная мать, которая делала букеты для церкви.
– Вилли Пипкин? – спросил я. – Так это не я запретил, а Питер. Лично я готов был над ним хоть всю жизнь издеваться.
– Нет, ты, – уверенно возразила мать. – Вы втроем довели его до слез, и ты так расстроился, что решил отстать от бедняги. Ты еще переживал, что Питер с Джейми тебя не поймут. Помнишь?
– Скорее, нет, – ответил я.
И в нашей довольно неприятной беседе это тревожило меня сильнее всего. Вы, возможно, полагаете, что ее версия понравилась мне больше моей собственной, но это не так. Разумеется, не исключено, что мать бессознательно наделила меня героическим ореолом или что я сам в детстве соврал ей, однако за последние несколько недель я привык считать свои воспоминания сверкающими золотыми монетками, прочными и настоящими, и огорчился, поняв, что они того и гляди обернутся фальшивкой, зыбкой и коварной.
– Мы с посудой закончили? Я тогда пойду с папой поболтаю.
– Иди, он рад будет. Я тут сама приберу. И пиво захвати с собой – там в холодильнике “Гиннесс”.
– Спасибо за обед, – поблагодарил я. – Было очень вкусно.
– Адам, – окликнула меня мать, когда я уже был у двери, и этот оклик обманным ударом угодил мне под дых.
Господи, как же мне захотелось на миг снова превратиться в прежнего ласкового ребенка, уткнуться в пахнущее едой плечо матери и, всхлипывая, рассказать ей обо всем, что произошло за последние несколько недель. Я представил себе ее лицо, если я так и сделаю, и прикусил щеку, чтобы не разразиться истеричным хохотом.
– Я просто хотела, чтобы ты знал, – робко сказала она, не выпуская из рук посудное полотенце. – Потом, после, мы все делали только ради твоего блага. Иногда я переживаю, вдруг мы поступили неправильно… Но мы боялись, что тот человек – кто бы он ни был – вернется и… Мы хотели уберечь тебя.
– Знаю, мама, – ответил я. – Все вы правильно сделали. – И, с облегчением убежавшего от опасности счастливчика, я улизнул в гостиную смотреть вместе с отцом “Коломбо”.
* * *
– Как на работе дела? – спросил отец во время рекламы.
Он нашарил на диване пульт и убавил звук телевизора.
– Отлично, – ответил я.
На экране карапуз, сидя на унитазе, возмущенно спорил с зеленым рисованным чудищем, которое выросло из испарений.
– Хороший ты у нас парень, – сказал отец, завороженно глядя на экран. Он отхлебнул “Гиннесса”. – Ты всегда был хорошим пареньком.
– Спасибо, – поблагодарил я.
Готовясь к сегодняшней нашей встрече, они с матерью явно меня обсуждали, хотя по какому поводу – ума не приложу.
– И на работе вообще все нормально?
– Да. Отлично.
– Ну и хорошо, – кивнул отец и снова прибавил громкость.
* * *
Домой я вернулся около восьми. Прошел на кухню, чтобы соорудить себе бутерброд с ветчиной и принадлежащим Хизер низкокалорийным сыром – в магазин заскочить я забыл. От “Гиннесса” живот у меня раздуло, я не бог весть какой любитель пива, но если я прошу еще чего-нибудь, отец начинает переживать – он уверен, что мужчина, который предпочитает чего покрепче, либо тайный алкоголик, либо тайный гей. Мне почему-то пришло в голову, что если поем, то это поможет – пища впитает пиво, и мне полегчает. Хизер сидела в гостиной. Вечер воскресенья она называет “время для себя”. Оно предполагает просмотр “Секса в большом городе”, манипуляции с кучей самых разнообразных мазилок и перемещения из ванной в гостиную и обратно с непреклонно-решительным видом.
Пискнул мой телефон. Сообщение от Кэсси: “Подкинь меня завтра до суда. Марафет + тележка для гольфа = марафет псу под хвост”.
– Вот отстой! – воскликнул я.
Совсем забыл про дело Кэвэно. Примерно год назад в Лимерике при ограблении до смерти избили старушку, и завтра утром нам с Кэсси предстояло давать показания в суде. Обвинитель известил нас об этом заранее, и в пятницу мы еще раз напомнили друг другу о судебном заседании, и все равно я умудрился благополучно забыть.
– Что случилось? – Хизер устремилась ко мне из гостиной в надежде поболтать.
Я сунул сыр обратно в холодильник и захлопнул дверцу, хотя толку-то: Хизер до миллиметра помнит, сколько чего она съела, и как-то раз, когда я спьяну помыл руки ее органическим мылом, Хизер ходила обиженная, пока я не купил ей новый кусок.
– Ты как? – В халате, с головой, обмотанной чем-то наподобие пищевой пленки, она источала химически-цветочные ароматы, от которых у меня сразу же разболелась голова.
– Все в порядке, спасибо. – Я нажал “ответить” и написал: “А у меня есть выбор? Увидимся в 8:30”. – Просто забыл, что мне завтра в суд надо.
– Ой-ой-ой. – Глаза у Хизер расширились. На ногтях у нее блестел свежий бледно-розовый лак, и Хизер махала руками, чтобы побыстрее высох. – Хочешь, помогу тебе подготовиться? Просмотрим вместе документы или еще что-нибудь.
– Нет, спасибо.
Вообще-то у меня и документов-то не было. То есть они были, но где-то на работе. Я подумал, что надо бы съездить за ними, но чувствовал, что еще до конца не протрезвел.
– А-а. Ну ладно. – Хизер подула на ногти и посмотрела на мой бутерброд: – Ой, а ты в магазин заехал? Помнишь, что твоя очередь средство для мытья унитаза покупать?
– Завтра куплю, – пообещал я и с телефоном в одной руке и бутербродом в другой направился к себе в комнату.
– А-а. Ну да, до завтра подождет. Это что, мой сыр?
Наконец я избавился от Хизер – правда, не без труда – и сжевал бутерброд, вот только последствия “Гиннесса” он, чего и следовало ожидать, не сгладил. Потом, руководствуясь той же логикой, налил себе водки с тоником и, плюхнувшись на кровать, принялся вспоминать дело Кэвэно.
Сосредоточиться не получалось. Память подсовывала мне второстепенные детали, отчетливые, но бесполезные, – блестящая красная фигурка Христа в гостиной жертвы, сальные патлы двух подростков-убийц, жуткая рана на голове, заляпанные обои в цветочек в дешевой гостинице, где остановились мы с Кэсси, – но ни единого важного факта вспомнить не удавалось. Ни как мы поймали преступников, ни признались ли они в убийстве, ни что именно они украли. Даже их имен. Я встал и прошелся по комнате, высунулся в окно и вдохнул свежего воздуха, но чем усерднее я старался вспомнить, тем хуже работала память. Спустя некоторое время я уже сомневался, как именно звали жертву, Филомена или Фионнуэла, хотя всего часом-другим ранее я выдал бы ее имя не задумываясь (Филомена Мэри Бриджет).
Я