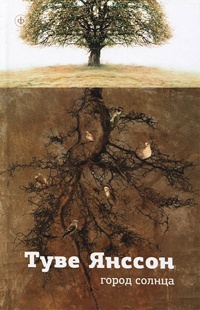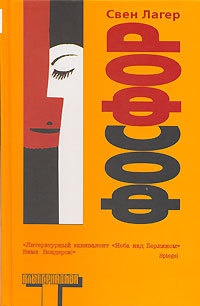– Сколько нужно, столько и уместятся, – промямлил могильщик.
Услышав этот ответ, юноша, сам не зная почему, успокоился: близился конец его мучениям и то знамение, которое он получил на станции Порт-Боу несколько дней назад и которое рассудок отказался тогда воспринять, скоро должно исполниться.
– Проследите, чтобы здесь всегда были цветы, – сказал он сторожу. – Я буду заглядывать сюда время от времени.
Он пошел к наемному экипажу, ожидавшему у заброшенного карьера. Уже две недели не было дождя, и его туфли увязали в белесой иссушенной солнцем пыли. В гостинице на его имя было еще одно письмо, от матери: она рассказывала ему о Казимире, о его смертельной болезни и умоляла сына вернуться в Париж. Обстоятельства вынуждают меня отложить возвращение на неопределенное время, – ответил Николау в этот же день. Он передавал свои наилучшие пожелания Казимиру, которого не имел удовольствия знать, и надеялся на его полное и скорейшее выздоровление. Надеюсь, положение изменится к лучшему, а Вы со своей стороны предоставите ему соответствующий уход, каких бы средств это ни потребовало, – и добавлял: – Мама, Вы можете распоряжаться моим состоянием без стеснения как своим собственным, но не просите меня вернуться в Париж; грядет мое двадцатилетие, и настал час, когда мне необходимо начать самостоятельную жизнь. В этот же вечер к нему в отель заявился дон Умберт Фига-и-Морера собственной персоной.
– Я пришел к вам, мой дорогой друг, как отец и юрист в одном лице, – сказал он, не тратя времени на вступление. – Если ваши намерения в отношении моей дочери серьезны, в чем я ни минуты не сомневаюсь, то в таком случае возникают некоторые крайне важные обстоятельства, требующие уточнения; прежде всего речь пойдет о вашем положении и состоянии.
Николау Каналс-и-Ратаплан окинул своего собеседника отсутствующим взглядом. Про себя он подумал: «Эти мерзавцы, несомненно, уже догадались о том впечатлении, какое произвела на меня их дочь, и сейчас пытаются поднять цену». С каким удовольствием он бросил бы ему в лицо слова презрения, переполнявшие его душу, но он знал, что тогда потеряет Маргариту безвозвратно. «Только при сообщничестве этих алчных гарпий – ее родителей, я могу сохранить луч надежды», – думал он. Но это не укладывалось в рамки его представления о порядочности. Слабость характера, та самая слабость, которая мешала ему отказаться от этой безнадежной любви и уехать в Париж, теперь не позволяла ему добиться обладания девушкой постыдным, по его мнению, способом. «Если бы я любил ее по-настоящему, я бы без колебаний продал душу дьяволу», – упрекал он себя. Эта двойственность вымотала его окончательно, и он, так ничего и не решив, уклонился от прямого ответа, чтобы выиграть время. И преуспел, поскольку научился напускать на себя святую невинность, столь для него естественную еще за день до описываемых событий.
– Я полагал, моя мать и ваша супруга пришли в этом деле к полному пониманию, – сказал он и добавил, что не мог взять на себя ответственность обсуждать эту тему, пока не переговорит со своими банкирами в Барселоне.
Дон Умберт поспешил свернуть паруса и сбавить скорость:
– Я оказался по делам в этих краях чисто случайно и зашел в гостиницу только для того, чтобы с вами поздороваться, а также выразить благодарность за конфеты, которые вы имели любезность прислать, и убедиться в том, что вы ни в чем не нуждаетесь.
Пока они беседовали, Онофре Боувила, следивший за каждым шагом противника, спешил воплотить в жизнь свой план. Два дня назад он получил зашифрованное послание от Гарнета, американского агента экс-губернатора острова Лусон. Шифровка гласила: «Все готово, жду инструкций». Онофре Боувила позвонил в колокольчик. Вошел секретарь.
– Сеньор звал меня? – спросил секретарь.
– Да, – ответил он. – Срочно разыщите Одона Мостасу и приведите его ко мне.
На следующее утро Николау Каналса разбудил какой-то шум, в котором нетрудно было узнать звуки выстрелов. Затем послышались торопливые шаги и голоса, но тут же стихли. Переполох длился считанные секунды. Он вскочил с постели, накинул на плечи купальный халат и неосмотрительно вышел на балкон. Из соседнего окна высунулась голова какого-то типа.
– Анархисты застрелили полицейского. А сейчас его тело увозят на телеге, – сказал он.
Николау бегом спустился по лестнице и выскочил на улицу, но не увидел ничего, кроме толпы любопытных, собравшихся вокруг лужи крови. Все говорили разом, и из этих сбивчивых объяснений он ничего толком не понял. Однако происшествие взволновало его чрезвычайно, поскольку впервые за все это время он почувствовал себя приобщенным к жизни города. В этот же день после обеда юноша пошел к портному по имени Тенеброс, содержавшему ателье на улице Анча, и заказал у него несколько костюмов; в магазине мужской одежды Роберто Маса на улице Льибретерия он купил несколько дюжин сорочек и кое-что из теплых вещей. Все указывало на то, что Николау собирался провести в Барселоне зиму. В гостинице его ожидало приглашение: сеньор и сеньора Фига-и-Морера просили оказать им честь отужинать с ними в ближайшую субботу у них дома, на улице Каспе, где они проживали в настоящее время. «Не надо туда ходить, – подумал он опять. – Я не должен упускать последнюю возможность выразить мою ясную и окончательную позицию в отношении этой грязной затеи». Но он увидел перед собой ее плечи и чуть не умер от острого чувства тоски. И тут же написал, что непременно будет, послав в подарок золоченую клетку со щеглом. В птичьем магазине его уверили, будто это очень редкий и ценный экземпляр: его якобы привезли прямо из Японии, и в его звонком пении слышались нотки ностальгии.
6
В разгар событий злосчастный Осорио, экс-губернатор острова Лусон, позорящий воинскую доблесть, получил по почте пакет. В него была вложена мертвая черепаха с выкрашенным кармином панцирем. Слуга-филиппинец при виде черепахи сделался бледным как смерть. Осорио попытался изобразить на лице презрение, но в тот же день на всякий случай переговорил с инспектором Маркесом, одним из полицейских, который состоял членом общества любителей боя быков, и сказал ему:
– У малайских племен это означает кровную месть.
– Очень может быть, что ваше губернаторство оставило кое у кого плохую о себе память, – заметил полицейский.
– Вздор, друг мой, и ничего, кроме вздора, – возразил экс-губернатор. – Мое правление было безупречным. Разумеется, исполнение столь тяжких обязанностей не могло обойтись без появления недоброжелателей, но уверяю вас, ни один из тех, чьи интересы я мог бы затронуть в процессе неуклонного исполнения своего долга, не располагает достаточной суммой, чтобы оплатить путешествие в Барселону.
– Как бы там ни было, – отвечал инспектор Маркес, – ясно одно: факт получения вами по почте этой пакости не может быть достаточным основанием для возбуждения дела.
Через несколько дней экс-губернатор получил второй пакет. В нем была дохлая курица, ощипанная до последнего перышка и с черной лентой на шее.