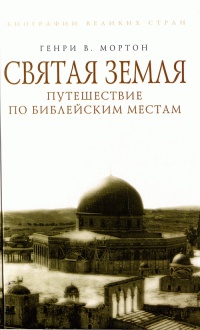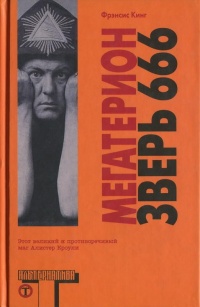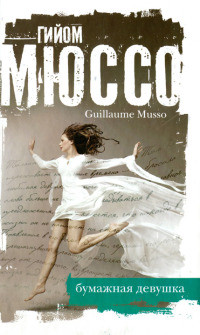Два престарелых купца, суфий и армянин, любивший щеголять перед Саади своим изысканным фарси, были немедленно освобождены. Армянин сообщил Саади, что они попали в плен к рыцарю Тибо де Грюмару, тулузцу, от которого зависит, как решится их судьба, но добавил: сам он неколебимо уверен, что дервиш и, разумеется, достопочтенный Саади будут выпущены на свободу.
В тот самый миг на пороге шатра показался огромный франк, толстый и одутловатый, с потухшими глазками на жирном лице. Он тяжело уселся за стол и положил на него свои ручищи, а один из помощников стал допрашивать пленных. Когда подошла очередь дервиша, тот изобразил, будто козья голова на его плече норовит боднуть, и издал блеющие звуки. Крестоносец поднял руку, и солдат развязал путы. «Да раскроет пред тобою Ризуан свои врата во всю ширь, знатный господин!» — проговорил дервиш. Послышался хохот[17], а когда франку объяснили, что Ризуан — это ангел, охраняющий ворота в рай, то и он тоже зашелся громким грубым смехом. Затем был допрошен Саади, и франкский рыцарь, как нам уже известно, велел поэту сочинить до вечера стихи. Когда весть об этом дошла до слуха его друзей и армянина, они вздохнули с облегчением, ибо, не считая Руми, не было тогда на земле поэта, равного Саади. Крестоносец кивнул армянину, и тот отвел Саади в сторону. Бледное заплывшее лицо рыцаря вызвало в Саади брезгливое чувство, к которому примешивалась жалость. Армянин пояснил, что рыцарь принимает у себя в Тулузе знатных поэтов и собирает рукописи и музыкальные инструменты. Неожиданно рыцарь зевнул во всю глотку, словно бегемот, и из нутра его дохнуло рыбой. А Саади задумался о том, предписывает ли франкам их религия обязательное и частое умывание.
Рядом с шатром развели четыре костра и теперь жарили на вертеле баранов. С тех самых пор, как Саади увязался за суфием, ни кусочка мяса не было у него во рту. Теперь он сидел среди франков, ел и пил с ними, забавляясь их веселостью, дивясь количеству поглощаемой ими пищи и вина и изумляясь их варварским повадкам. Сам рыцарь тоже заглотал добрую четверть барашка и теперь, увидев беркута, кругами летавшего над горой, схватил чей-то лук, пустил стрелу, промахнулся и немедленно принялся вопить и раздавать тумаки направо и налево, жалуясь и причитая, и даже разразился слезами, но, будучи утешен своими товарищами, вскоре снова принялся за еду.
После обеда воины завалились спать. Заснул и Саади, всю ту ночь не сомкнувший глаз, и спал, покуда его не разбудил помощник рыцаря и не спросил, не требуется ли чего сочинителю в помощь. Саади поблагодарил и испросил разрешения побродить по берегу моря, ибо вошло у него в обыкновение сочинять стихи во время ходьбы. Согласие помощника было получено, более того, тот попросил позволения выслать за поэтом солдата, дабы охранял его от львов и барсов, а также от всяких чудищ, обитающих в этом мертвом море.
В распоряжении Саади оставалось четыре-пять часов, время вполне достаточное для столь виртуозного поэта. Но из послания дервиша нам известно, что Саади был охвачен паникой и никак не мог решить, какое стихотворение особенно понравится франкскому варвару. Ему в жизни не доводилось читать поэзию франков, только слышал о ней уничижительные отзывы египтян. Стихотворение об охоте? О коне? О любви? Позабавить франка или заставить его расчувствоваться? И тут Саади припомнил их музыку. Когда они пели свои дробные и задорные песни, то и он, чужой для них, заражался весельем, однако их протяжные и печальные мелодии наводили на него скуку. А посему решил он сочинить что-нибудь шутливое, остроумное, такое, что пробьет броню жира и зажжет давно потухшее пламя в маленьких глазках тулузца. Он ускорил шаги, и стихи, предостерегающие от дружбы с человеком, попечению которого вверены слоны, стали складываться сами, строка за строкой:
Советом поделюсь, не тратя лишних слов:
Ты дружбы не води с погонщиком слонов.
Досуга не найдет в беде тебе помочь —
Слонов поить-кормить он будет день и ночь.
Коль друга навестить захочет наш герой,
За ним его слоны потянутся гурьбой.
Дощатый хрустнет пол и дрогнет потолок,
Когда в твой дом войдет отряд слоновьих ног.
Не тщись спасать тахту, подушки и ковер —
Их превратит в труху четвероногий вор.
Печенье и халву, орехи и компот
Слон хоботом возьмет и в свой отправит рот.
Сожрав все, что найдет, он вряд ли будет сыт
И, вмиг остервенясь, прегромко затрубит…
Чтоб былью стать не смог ужаснейший из снов,
Ты дружбы не води с погонщиком слонов!
Сочинение стихов заняло около двух часов, и у Саади оставалось еще довольно времени. Свет постепенно слабел, тускнел и гас; одиночество, озноб и ропот поднимались в душе, словно пар, восходящий над водою, и было что-то скорбное в прикосновении зыбких волн к недвижным камням. Шатры крестоносцев казались обрывками пергамента, а курящиеся дымки костров походили на письмена, сулящие несчастье. Эта картина, подобно облаку, накрывшему землю своей тенью, пробудила в Саади иную мелодию, и строка за строкой зародились в нем новые стихи, а уста шептали их с прежним радостным воодушевлением:
Как любит правду человек?
Как горный пик — свой вечный снег,
Как тихий утра ветерок —
Волну, что плещет на песок.
Еще никто не прогадал,
Кто раз и навсегда сказал:
«Я душу Богу поручу —
Чистосердечным быть хочу».
Вернувшись в лагерь, Саади прочитал оба стихотворения дервишу, и тот запечатлел их на пергаменте своим бесподобным каллиграфическим письмом. Вечером Саади был приглашен к шатру рыцаря и, хотя выбор был сделан им еще прежде, все-таки спросил дервиша: «Которое из двух стихотворений прочесть?» Дервиш отвечал: «Стихи о погонщике слонов», а армянин, уже успевший заглянуть через плечо пишущего, хихикнул и провозгласил: «Блажен глаз, узревший сие! Очаровательно и остроумно! Лишь избранные души наделены подобной легкостью. Красота сама свидетельствует о себе! Не только господин Тибо, но и странные люди, о которых сказывают, будто у них на плечах растут пёсьи головы, сумели бы насладиться этим милым и забавным сочинением!»
Этот выбор обошелся Саади унижением и многими муками. Истерзанный и больной, он рыл землю и возводил стену Триполи в течение долгих и тяжких месяцев.
За то ли он был наказан, что, наблюдая за перипетиями своего времени, стал подозревать, что весь наш мир похож на странную шутку и что умные люди в глубине души думают так же, как он? А может быть, расплата последовала за то, что все его странствия служили лишь предлогом, скрывавшим желание уклониться от долга любви к ближнему? Или он забыл что-то и был наказан за свою скверную память? Подобные мысли одолевали Саади, сидящего верхом на направлявшемся в Халеб муле, который ревел, жевал сено и отгонял хвостом мух. И кто знает, к чему бы привели все эти размышления, будь Саади суфием или дервишем. Но, глядя на цветы и травы, растущие по обочинам дороги, Саади приободрился и стал прислушиваться к позвякиванию колокольцев на перевязи мула, к щебету птиц и густому жужжанью шмелей, а потом сказал себе: «Эх, Мушриф! Довольно тебе терзаться и мучиться! Один человек не оценил твоих стихов, и ты шесть месяцев рабски трудился на стройке. Другой восхитился твоими стихами, заплатил сто золотых динариев, и теперь ты совершенно свободен. Даже по самому щедрому счету твое участие в земляных работах вряд ли стоило больше десяти динариев в месяц. Отсюда следует, что цена тебе на счетах мироздания — сорок динариев за полгода: итог невелик, но и не столь уж мал». Так думал Саади, гоня прочь свои грустные и обидные мысли; и лишь на страницах «Бустана» и «Гулистана» вьется порой дорога в Халеб, сумрачная и взыскующая.