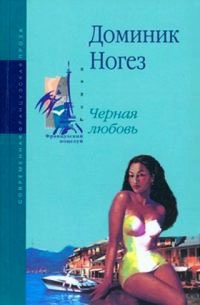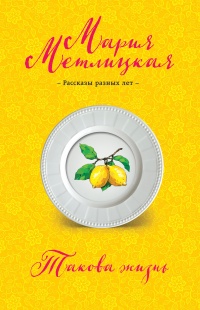— Здравствуйте! — повторил я.
Он и тут не ответил. Только чуть дрогнули его зрачки да опустились покрасневшие веки. Но почти сразу он открыл глаза и на сей раз посмотрел в мою сторону. Узнал ли он меня? Не уверен.
— Оставьте меня, — сипло пробормотал он.
Обычно его голос звучал уверенно и чисто. «Неужели пьян?» — опять подумал я, сам себе не веря. И задал совсем уж глупый вопрос:
— Отдыхаете?
Его неприязненный взгляд заставил меня устыдиться своей настойчивости, однако я все же прошептал:
— Или ждете кого-то?..
Он и бровью не повел. А я никак не мог решиться уйти. Не знаю, откуда только взялось у меня неодолимое стремление продолжить этот почти безответный диалог, но я чувствовал, что должен поговорить с ним, завоевать его доверие. Зачем, спрашивается? Как родилась эта неожиданная, необъяснимая дружеская симпатия к нему? Ах, если бы мне удалось заставить его услышать меня! Но Анатаз был глух к моим словам. Его отсутствующий взгляд, его оцепенение причиняли мне острую душевную боль. Вдобавок эта узенькая площадка, вернее, карниз над бездонной пропастью и это безнадежное одиночество только усугубляли мое смятение. Боюсь, что наговорил бы ему еще много глупостей от расстройства чувств, если бы вдруг не услышал:
— Я слежу.
И Анатаз, уже не обращая на меня внимания, снова устремил взгляд куда-то вдаль. Затем, видимо вспомнив, что я еще здесь, промолвил чуть громче:
— Оставьте меня, я слежу.
Делать нечего, я медленно удалился. Но за миг до того, как лес поглотил меня, я услышал позади шум и оглянулся, думая, что это Анатаз встал на ноги. Нет, это из желоба для спуска бревен вылетел огромный ворон. А человек, сидевший у скалы, так и не шелохнулся.
В деревню я пришел, когда уже смеркалось. Долгая ходьба уняла мою тревогу. Я уже собрался войти в пансион, как вдруг услышал звуки аккордеона, и они заманили меня на площадь.
Молодые парочки, которые встретились мне на дороге нынче утром, танцевали вокруг фонтана. Видно было, что они готовы плясать где угодно, хоть на лугу, хоть в лесу, и, уж конечно, будут веселиться и здесь, и в других местах и разойдутся по домам только под утро. Хотя еще не совсем стемнело, над их головами горела гирлянда электрических лампочек, и этот искусственный свет огрублял юные лица, делая их старше лет на пятнадцать. Я невольно улыбнулся при мысли о том, что утром видел их почти детьми, а сейчас они выглядят совсем взрослыми.
И вдруг я заметил Жанну, танцующую с Габриелем! Меня обуял гнев. Я ринулся к фонтану. Аккордеон смолк, и в тишине чей-то голос спросил:
— А где Анатаз?
«В самом деле, где же он?» — подумал я, устыдившись, что забыл о нем. Я исподтишка посматривал на Жанну, пытаясь поймать ее взгляд, но она упорно отворачивалась. С виду ее можно было принять за одну из юных девушек, которые походили на своих кавалеров, как сестры на братьев. Габриель обнимал ее за талию, крепко прижимая к себе. Наконец она высвободилась из его рук, и мне удалось заговорить с ней. Она подняла на меня свои карие глаза, одновременно и темные и сияющие, и даже не соизволила поздороваться.
— Я видел Анатаза в лесу, — прошептал я, — там, на карнизе, на самом верху, и он… Что с ним приключилось?
— Не знаю, — бросила она, — оставьте меня…
Оставьте меня. То же самое сказал мне и Анатаз. Я стоял, погруженный в печальные раздумья. Люди просят, чтобы я их оставил, а я, упрямец, досаждаю им! Неужели так и будет всю жизнь? Впрочем, что мне в этой жизни! И я ощутил неодолимое желание покинуть этот мир, где невозможно встретить родственную душу.
На следующий день Анатаза нашли в лесу, там, где я увидел его сидящим у обрыва. Он так и умер сидя. У него уже отросла длинная щетина, а на голове виднелась ранка, правда неглубокая.
— Пришлось отгонять воронов камнями, они так и прыгали вокруг него!
«У него случился удар, — объявил врач, прибывший снизу, из долины. — Он умер от внутреннего кровотечения». Но люди не поверили ему, все решили, что Анатаза убил какой-нибудь браконьер.
— Егеря — они все так кончают.
Разумеется, высказывались и другие подозрения.
— Зверей-то он охранял, а вот жену свою не сумел…
Я слушал и помалкивал. Я встретил человека, которому предстояло умереть, и ничего не понял, ничего не сделал для его спасения, ровно ничем не помог! Меня мучил стыд. Казалось, что я бесконечно жую «кляп» — так здесь называли кислые горные груши.
Я пошел прощаться с умершим. Анатаз лежал на широкой кровати, накрытый с головой кисейным покрывалом. Я пробормотал молитву, затем окунул веточку медвежьей ягоды в чашу со святой водой и окропил покойника. Жанна стояла на коленях в углу комнаты, не поднимая глаз.
— Надо же, вроде как печалится, — шептались соседи.
Я смотрел на Жанну. Теперь я смотрел на нее без трепета и словно бы издалека. Нашему роману пришел конец. Я навсегда расстался с ней. И больше не стану искать с ней встреч. Анатазу понадобилось умереть, чтобы встать между нами.
— Пламя, что кощунственное, что божественное, не отбрасывает тени, — неожиданно сказала Жанна сквозь рыдания.
И она указала на две свечи, горевшие у смертного одра.
— Мы ничего не видим сквозь их огонь, он скрывает от нас то, что предстоит перед ним.
Крестьяне, никогда не понимавшие рассуждения Жанны, слушали ее с тупой растерянностью, да и я в какой-то миг подумал: уж не сошла ли она с ума? Но потом вспомнил, что она и прежде часто держала такие речи, и констатировал, что горе не отбило у нее охоты к высокопарным невразумительным высказываниям. Мать Анатаза, старуха, которую я видел впервые, угрюмо покачала головой:
— Надо бы пойти объявить пчелам… коли не я, так кто ж это сделает?
Она облачилась в воскресный наряд и пошла на нижнее пастбище, где стояли два убогих улья, принадлежавших Анатазу. Потом уж я узнал, что она трижды постучала по каждому из них, восклицая: «Ваш хозяин умер!»[1]И накрыла их черной тканью.
Испуганное оцепенение, охватившее местных жителей, прошло не сразу. Еще много дней над деревней висела мертвая, гнетущая тишина. И если бы земля не требовала от людей ежечасных забот, мужчины и женщины так и сидели бы, затаившись, в своих жилищах. Над всеми нами витал неотвязный, тленный запах смерти, его не могли заглушить ни ветер, ни дым из каминных труб, ни аромат скошенной травы. Куда только подевались весело перекликавшиеся голоса, серебристые промельки топоров, разрубавших толстые поленья?
Теперь вдову Анатаза часто видели на улице — печальную, одетую в траур и такую благонравную, что с нею здоровались все соседи. Она горько оплакивала мужа, и ей даже начали сочувствовать. Потом она сообщила, что собирается уехать из деревни «вниз». Квартиру она оставляла за собой, но все имущество хотела продать. А еще она намеревалась работать в какой-нибудь миссии, занимавшейся лечением прокаженных: