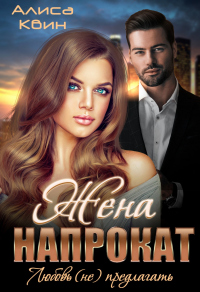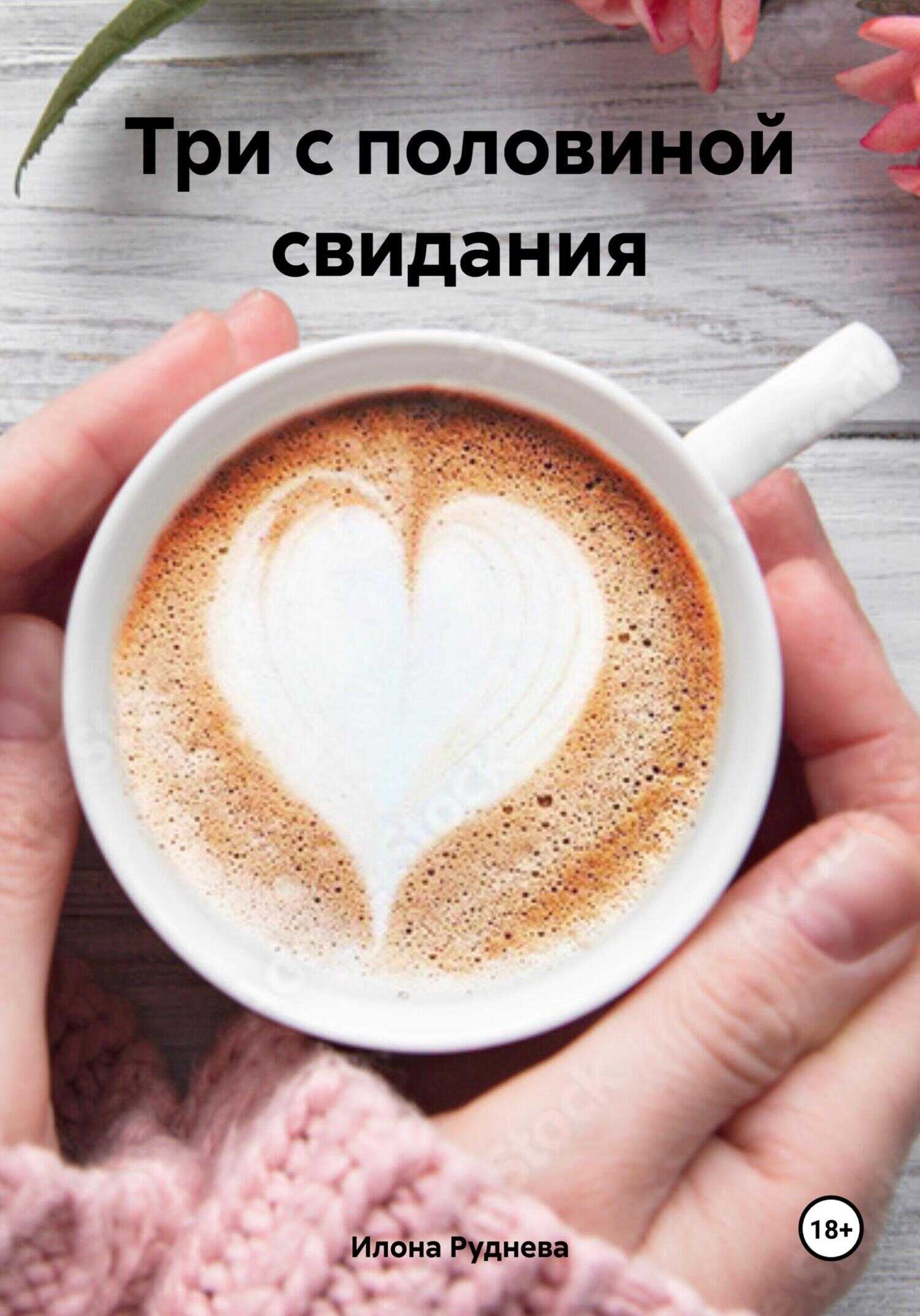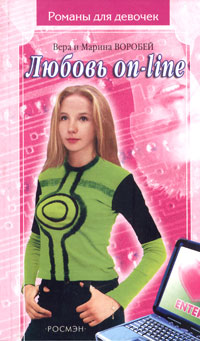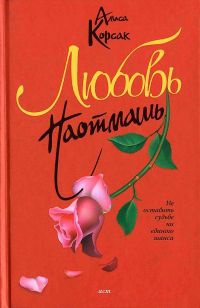их жизни так страшно изменятся; что Льва осудят и сошлют отдельно от нее в Томск, а ее отправят сюда, в лагпункт у Новосибирска, и определят в этот барак с уголовниками и проститутками, и что Клавдия Сердючко, воровка, назовет ее своей коллегой. Этому теперь можно было только позабавиться, иначе горе не даст ей выжить, чтобы однажды встретиться с Левой.
– А что, майор Ларионов такой деспот? – спросила тихо Наташа Рябова, которой на этапе становилось все хуже.
С верхней над ней нары свесилась Саша, работавшая лагерной медсестрой.
– Да нет, что ты. Ларионов – мужик нормальный, мы его все любим, особенно некоторые.
По бараку пробежал смех. С нар из дальнего угла вальяжно сползла Анисья.
– Что ты тут треплешь? – сказала она с улыбкой. – Все завидуете, что я с ним живу.
Сердючка фыркнула и забралась на свою вагонку.
– Шалавам завидовать! – громко сказала она.
– Дура, змея подколодная! – закричала на нее Анисья, и лицо ее сделалось злым, некрасивым, как лисья мордочка, когда та щетинится. – От зависти зеленеешь! Все злобой исходишь, что меня любит майор, а ты с Охрой перепихиваешься.
Сердючка соскочила с вагонки и пошла грудью на Анисью.
– Ну что, в собачник захотела? Давай, бей! Сейчас туда же отправишься, куда эту гордячку упекли! – кричала Анисья.
– Что? – вдруг проснулась Баронесса. – Пироги напекли?
– Да лежите вы, бабуся. Туда же… – испуганно прошептала Рябова.
– Ну-ка! – послышалось громогласное Балаян-Загурской.
В барак ворвался холодный воздух, на пороге показалась озабоченная и раскрасневшаяся Федосья.
– Тихо вам, клушки! Анисья, Гелька, Надька и Райка, ну-ка собирайтесь – начальство вызывает. Ужин у них.
Федосья уселась на край вагонки и пыхтела.
– День сегодня тяжелый: Александрыч что-то не в духе совсем, и девку закрыл в изолятор ни за что ни про что.
Анисья приготовила зеркало и яркую помаду.
– Нечего было выпячиваться, тоже мне – заступница.
– Тут не в ней дело, – подсела к ним бригадирша Варвара, – тут что-то с Ларионовым. Вот дела! Он на нее не на шутку рассерчал.
Анисья подкручивала волосы у висков и усмехалась. Клавка сердито смотрела на Анисью поверх нар.
– Дело простое, – вдруг сказала она, поджимая губы и не сводя глаз с Анисьи. – Понравилась она ему.
Анисья оторвалась от зеркала и повернулась к бабам. Все молчали, удивленные неожиданной провокацией Сердючки. Анисья пустилась смеяться, заливисто и нарочито, открывая свои безупречные влажные зубки.
– Отродясь такой глупости не слыхала! Ты уж от злобы не найдешь, что поумнее сочинить. Было бы еще на что глядеть – а то глаза одни торчат и спесь. Да скоро тут майор с нее спесь собьет – посидит недельку в ШИЗО, как шелковая станет. Увидите!
Федосья отхлебнула чая из граненого стакана на шатающемся столике. Бригадирша Варвара, уже шестой год работавшая на делянке, покачала головой со знанием дела.
– Не скажи, Анисья. Вот была одна тут, Алена, помнишь, Федосья? Так она меньше Александровой была, худая – в чем дух держался, – а как на делянке у меня работала. Померла она, правда, быстро: силы иссякли, чахоточная она была.
Наташа Рябова вздрогнула. Инесса Павловна взяла ее за руку. Анисья накрасила лицо, прихорошилась и с подругами вместе собралась уходить.
– Идем, Федосья, пусть сочиняют. А мы – дамы важные, нам начальство столы накрывает, ручки целует, одаривает с ног до головы. А тем, кто «нравится», – парашу в изоляторе мыть.
Девушки засмеялись и вышли. Клава плюнула в их сторону с нар.
– Все шлендры.
– А сама-то что? – протянула, закуривая папиросу, Варвара-бригадирша. – Все мы, бабы, мужниными хотим быть. Нам, бабам, что греха таить, что им, кабелям, тоже надо этого дела. Да и дерьмо вывозить за всеми да на делянке здоровье гробить – не всяк захочет и сможет, верно?
– Я без понта, Варя. Грех за мной тоже водится – хожу я к мужикам, бывает. А что? Я живая! У меня на воле муж есть.
Бабы захихикали.
– Вот те крест, есть! – обиделась Клавка. – Да только он далече – у него досюда точно не достанет, а мне охото.
Бабы бросились визжать.
– И то верно, – прищурилась бригадирша.
– Только я не шкура какая, – продолжала Клава, перехватив папиросу у бригадирши и затягиваясь со сноровкой и удовольствием. – Я любовью не прикрываюсь, не жеманничаю. Надо для удовольствия, так Клавка – пожалуйста, а холопствовать и нос задирать, как Анисья – не по мне. Придумала тоже – любовь с майором крутить. Да что он про любовь знает? Он же мусор. Все они супостаты! Народу вон мрет сколько по тюрьмам да зонам.
Инесса Павловна внимательно слушала бабий разговор, протирая свои изящные очки, привезенные Левушкой из парижской командировки.
– А позвольте спросить у вас, Клавдия, – вдруг вторглась в их разговор она. – Отчего ж тогда майор Ларионов не деспот?
Клава насупилась, то ли думая, что в вопросе Инессы был подвох, то ли сама сомневаясь в своих чувствах к Ларионову и к жизни в лагпункте вообще.
– Я вот как думаю, Инесса Павловна, – сказала Клавка серьезно, почувствовав гордость от того, что ученая особа заинтересовалась ее мнением, – Ларионов и правда мужик неплохой: красив собой, умный такой; бывает, и пошутит, и не приказывает бить или истязать заключенных. Но иногда враз меняется, как будто звереет. Вот и сегодня на плацу мог ведь Александрову простить, а он взял и кинул ее в изолятор. Вот я и думаю, каков бы тут ни был человек, убить нас у любого из них рука подымется. А мужики вообще все гады. Как соблазнить – и вином угостят, и в ресторацию сводить даже могут, а как поматросят – грязь ты под ногами у них, пустое, значит, место.
Инесса Павловна пожала плечами и с доброй улыбкой смотрела на Клавку.
– Вы заблуждаетесь, мне кажется, насчет всех. Разве дело в том, кто я – мужчина или женщина? Я в конце концов к душе своей обращусь, в ней и ответы все. А душа не имеет ни пола, ни цвета, ни положения.
– Вот правда ваша! – воскликнула Сашка. – Мне мать тоже всегда говорила – не смотри на одежду и чины, гляди в душу.
– А вон их душа-то вся, – лениво потянулась бригадирша, – с Анисьей да начальством водку хлыщут, а девка в изоляторе загибается, чай уж замерзла напрочь. Чахоткой заболеет, как есть, и помрет ненароком до Нового года.
Рябова снова вздрогнула. Старуха Баронесса открыла глаза.
– Я, спрашиваешь, какого года? Так я уж сама не помню, касатка.
– Молчи, глухая тетеря, – пробурчала Клавка.
– Что ж ты так грубо, она же нездорова, – тихо сказала Лариса Ломакина,