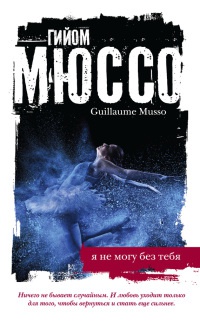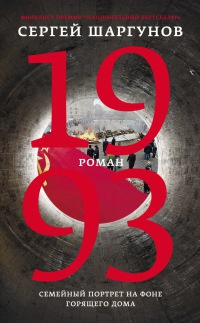Ознакомительная версия. Доступно 16 страниц из 77
– Вот. Не читали про Сакко и Ванцетти?
– Нет, не читал, кажется.
– Интересно, интересно, и тираж небольшой, – говорит Краснощёков, заглядывая на последнюю страницу, – двести тысяч…
Качнув головой удовлетворённо, он идёт платить в кассу. Он выходит из магазина. Клементьев – за ним.
– Здравствуйте, Николай Кондратьевич!
Он повернул лицо в мою сторону, говорит Клементьев, и стал всматриваться, хмуря лоб. Как постарел Краснощёков! Я бы мог запросто обознаться.
– Николай Кондратьевич, помните: «Раздарив под глазами отёки, жизнь уходит, как гость, по-английски»?
Боже милостивый, это не передать словами.
– Стас! Дружок ты мой, Стас!
– Что вы, ну, что вы, – говорил я, – Николай Кондратьевич, – я пытался освободиться от объятий, – Николай Кондратьевич…
На нас люди смотрели.
Я не буду подробно останавливаться на следующей главе, представляющей собой крайне сбивчивый, сумбурный и глубоко эмоциональный рассказ Краснощёкова о житье-бытье своём и здоровье, прерываемый к тому же многочисленными комментариями Стаса Клементьева и появлением, кроме того, однорогой козы, перебегающей для разнообразия улицу Партизана Шорина. Бог с ней, с козой, о ней лучше забудем, а вот что Краснощёков последние шесть лет просидел безвыездно в Первомайске, лучше запомним и особо отметим как следствие, тот факт, что подобно философу Канту, жившему в Кенигсберге и не видевшему, по преданию, моря, Николай Кондратьевич, проживающий в своём Первомайске, ни разу не побывал за эти годы на городском вокзале. «Больше ничего не выжмешь из рассказа моего». Поэтому смело опустим семь необязательных страниц и останемся благодарны Николаю Кондратьевичу за сообщённую им в общем-то важную для нас (про вокзал) информацию.
Коль скоро зашла речь о странностях Краснощёкова, то, пожалуй, следует прибавить к общему списку ещё две, напрасно я их опустил раньше: первая – безотчётная любовь к Иннокентию Анненскому, озадачивающая каждого, кто хоть немного знаком с поэтической продукцией Николая Кондратьевича, и вторая, частным случаем которой является первая, – поразительнейшая широта взглядов. Объять необъятное – вот чего хотел Краснощёков. Было известно, он пишет поэму – о всей своей жизни. Он многим говорил об этой поэме, но никто никогда не слышал из неё ни одной строчки (притом, что обычно Краснощёков охотно читал, когда просили, стихи, и даже часто, когда не просили).
Вот ещё небольшой кусочек, зря мною вычеркнутый, поведенческий портрет Краснощёкова. Не столько здесь своё пытался отразить Клементьев мнение, сколько общее. Значит, так.
Его фамилия не отвечала наружности. Краснощёков был бледен, тщедушен, худ. Щёки его провалились. Он много курил и работал ночами. Был он весь какой-то развинченный, неуклюжий; никто не знал, что сделает Краснощёков через секунду – смахнёт ли пепельницу со стола, уронит ли стул на пол или ударится локтем об угол шкафа. Но при всей угловатости, нервозности, развинченности держался Краснощёков с удивительным достоинством, как бы подчёркивая свою исключительность и необыкновенность. Он хотел казаться величественным – под стать пафосу своих лучших стихотворений, была у него такая слабость. Наверное, поэтому Краснощёков слегка запрокидывал назад голову и, когда разговор заходил о поэзии, смотрел на собеседника как бы сверху вниз, глаза его, однако, постоянно бегали, что не создавало впечатления величия, даже если и возникало отдалённое сходство с Данте (ввиду выдвижения вперёд подбородка). Краснощёковская манера двигать подбородком стала для многих предметом подтрунивания.
И два слова, наконец, о Сашеньке. Сашенька. Тайна дружбы её с Краснощёковым так и останется неразгаданной. А сколько было кривотолков о том в Первомайске.
Читатель оригинального текста «Трубы» должен был бы, по замыслу автора, ощутить присутствие Сашеньки с первых же страниц романа. Прежде чем пойти в диетическую столовую, Стас Клементьев увидел на автобусной остановке стройную девушку. Она приобрела только что пучок салата в овощном ларьке, и приобретённый салат этот выглядывает из полиэтиленового мешка с эмблемой «Росмолпром-82», – сейчас она сядет в автобус. Что-то заставляет остановиться Клементьева; он замечает, что волосы у неё – каштановые, и теперь уже наступает черёд заметить читателю, как легко этот редкий эпитет будет употребляться не к месту героями. Я тогда на то хотел намекнуть таким образом, что образ её светлый проник в душу рассказчика.
Если не Данте, то Вергилий: продолжаем движение.
– Это дом князя Мещерского, – сказал Краснощёков.
Он ведёт Клементьева по Первомайску.
– Какого Мещерского?
– Князя Мещерского, реакционера. Вон стоит.
– Этот?
Ещё бы не знать Клементьеву этот дом – двухэтажный, ютящийся между пивным павильоном и городской баней с колоннами. Когда-то в нём начальствовал Пётр Семёнович, Дашин отец, и были тут шерсточесальные мастерские. Они и сейчас есть – только вывеска новая, а тогда, бывало, Пётр Семёнович, выйдя на балкон (дом этот с балконом) и опершись на перила… однако опустим.
– Не понял. Мещерский?
– Эх, Стас. К нам историк приезжал, я объясняю. Приезжал историк, давал интервью в газету, я с ним беседовал. Видишь ли, оказывается, тут мог останавливаться Мещерский, князь, а тот был близок одно время к Достоевскому, когда журнал издавал… в Петербурге… и охотился он тут, говорят, на зайцев, у нас, ты же знаешь, до сих пор ещё зайцы водятся… Я заинтересовался насчёт Мещерского, может, и Достоевский бывал у нас когда-нибудь, мало ли, может, здесь останавливался…
– Но ведь Достоевский не был охотником?
– В том-то и дело, что не был. Тургенев был, а Достоевский не был… Да и не дружил он с Мещерским…
– Вам бы, Николай Кондратьевич, в краеведческом музее работать.
– Музей закрыт, – с печалью в голосе произнёс Краснощёков, – в связи с ремонтом Дома культуры.
Свернув налево с главной улицы и вниз (Первомайск – город холмистый), мы (продолжает Клементьев) очутились в парке имени Орджоникидзе. Народу здесь была тьма тьмущая («потому что выходной», – объяснил Краснощёков), – кто гулял по аллеям, кто стоял возле опять-таки павильона пивного, кто сидел на скамейках, кто на траве расположился, постелив газету. Играла музыка, крутилась карусель, и было слышно, как глухо щёлкают в тире. Сквозь кроны деревьев выглядывал земляной вал – старинное фортификацинное сооружение, свидетель былой славы.
– Посмотри, – сказал Краснощёков (мы стояли на краю вала, весь город был как на ладони). – Вон там, за рекой, – он протянул вперёд руку, – мельница, помнишь? Ветхая уже и крылья давно обвалились, а всё не сносят. Красиво.
– Трубу-то когда снесёте?… Торчит посреди города…
– Пускай поторчит. Снесём. Завод снесли и трубу снесём.
– Так завод снесли – я ещё не родился.
– И трубу снесём, время придёт.
Ознакомительная версия. Доступно 16 страниц из 77