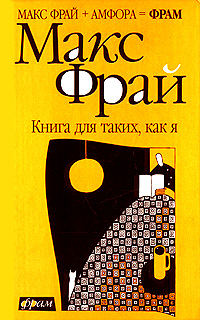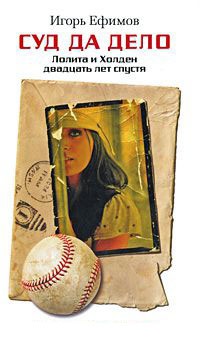Ознакомительная версия. Доступно 20 страниц из 96
Синьков понял, что он должен как-то высказаться о коммерческом гении директора, и он покачал головой, что могло быть при желании принято за высшую степень изумления.
Синьков попробовал утешиться снобистской мыслью, что директор этот — темный, грубый человек. Однако мысль эта не успокоила его окончательно, а только подхлестнула для дальнейших поисков. Он решил искать режиссера. Директор любезно предложил ему машину. Он был всесилен, у него было два или три десятка машин. Газик, минут десять пропетляв по оврагам, вывез Синькова к дальнему склону холма, и здесь он увидел пестрые дольчевитки операторов, ассистентов, костюмеров, а также стройные силуэты коней и всадников на гребне холма. Подойдя еще ближе, он сразу различил надежную широкую спину Запасника и подумал, что конечно же на картине, так же как, к примеру, на театре, должен быть один человек, который направляет своей волей этот хаотический поток устремлений и воль к высшей художественной и нравственной цели. Вероятно, именно об этой конечной цели нравственного воспитания и говорил Запасник в многочисленных интервью, которые он давал русским, французским, американским корреспондентам, одолевавшим его. На сей раз это, конечно, будет высокая идея отвращения к братоубийственной войне. Так, во всяком случае, писали репортеры.
Вспомнив эти интервью, Синьков вспомнил — одно за другим — и все, что он успел увидеть здесь: актерское своеволие, вакханалию красок на живописном поле войны, изнывавшую от безделья массу людей и, наконец, давешних лошадей. Абстрактное соображение о выборе средств, которыми достигается великая нравственная цель, обрело вдруг навязчивую конкретность. В то же время Синьков увидел, что он не может сейчас тревожить Запасника праздными вопросами о лошадях и людях, о фасоли и виноградниках, потому что режиссер был с головой погружен в дело, а Синьков не был человеком дела и написанные им для фильма странички ни просто делом, ни делом своей жизни не считал.
Сейчас Запасник был поглощен очень ответственной съемкой. Синькову оставалось только подойти поближе и встать в самой непосредственной близости к режиссеру, воспользовавшись своим привилегированным положением. Так он и поступил.
Стоя в напряженно замершей группке людей, он видел, как по команде помрежа отряд всадников ринулся вниз с гребня холма и как одна из лошадей вдруг упала на передние ноги, а наездник, перевернувшись в воздухе, рухнул на землю, перевернулся еще раз на земле и тут же вскочил.
— Бене… — крикнул молодой помреж.
Запасник молчал. Помощники, окружавшие его, переговаривались вполголоса, выражая восхищение ловкостью рослого красавца каскадеро из Югославии. Потом Запасник обернулся к помрежу и буркнул:
— Еще раз…
— Анкоре… Примо пьяно… — крикнул в микрофон помреж, всадники стали отходить на гребень холма.
Потом кони снова пошли на камеру, и ближний снова споткнулся, но не удержался и упал на бок. Всадник успел вывернуться из-под коня и покатился по склону холма, скрючившись и держась обеими руками за бедро.
— Стоп! — крикнул помреж, и тогда все, кто окружал камеру, бросились к трюкачу.
— Мило! Мило! Мама миа! Что? Что? Оу! Терибл!
Все расступились, потому что сам режиссер подошел к каскадеро и склонился над ним. И тогда русый красавец Мило открыл глаза, ослепительно улыбнулся Запаснику и, превозмогая боль, встал, как и подобает мужчине. Запасник обнял его и трижды поцеловал, повторяя: «Ва бене! Ва бене!» А фотограф, хлопотливо расталкивая, раздвигая посторонних, все снимал и снимал эту редкую сцену. Режиссер велел всем разойтись, потому что он сам пожелал сфотографироваться на память с героем дня, и они были немедленно сфотографированы в обнимку специальным японским фотоаппаратом, выдающим цветной отпечаток ровно через сорок секунд после съемки. Наблюдая эту сцену, Синьков подумал, что режиссеру, наверное, любопытно и даже приятно стоять вот так, в обнимку, с человеком, который только что рисковал жизнью ради его искусства и был, возможно, ближе к смерти, чем находимся все мы ежедневно. Кроме того, это был жест демократический, и конечно же исторической этой фотографии суждено будет обойти страницы провинциальных и столичных газет. Именно так заявил молодой русский художник, стоявший позади Синькова, и Синькову вдруг подумалось, что провинциальные газеты отличаются от столичных, вероятно, лишь размерами и качеством печати, ибо уровень мышления любой газеты прежде всего отмечен гнетущим провинциализмом сенсации.
— Запросто мог бы хребет поломать! — восхищенно сказал молоденький солдат из ограждения. — Зато семьдесят пять рублей за каждое падение платят. Да тринадцать рублей в день ему командировочных идет…
Подошла очередь Синькова подержать в руках уже подсохшую фотографию каскадеро с автографом режиссера. Белозубый Мило, так решительно торгующий своим позвоночником, счастливо улыбался с фотографии, и низкорослый Запасник улыбался тоже, неловко притулившись к его боку. Синьков снова подумал о том, что должен ощущать режиссер, — вероятно, то же самое ощущал маленький смешной человек, смачно целовавший космонавтов, которым посчастливилось благополучно вернуться на Землю.
Синьков решил выбраться на стоянку студийных машин, потому что съемки, по всем расчетам, уже должны были подходить к концу. Он шел мимо дымящейся фермы, вытоптанного поля, где земля была выжжена от многодневных пожаров и взрывов, мимо разбросанных пластмассовых гвардейцев, голов и мундиров из пластика, мимо повозок, тележек, обломков оружия. И он думал о том, что зритель, вероятно, очень и очень любит все эти пожары, погони, падения, взрывы, раз они входят с такой неизбежностью в каждый фильм. А может, наоборот, кино приучило к ним зрителя? Так или иначе, именно к фильму, который не складывается из этих наиболее интересных для зрителя эпизодов, чаще всего и прилагается эпитет «не кино». А то, что является «настоящим кино», очень скоро приобретает все легко различимые качества штампа и шаблона. Как ни странно, та же участь постигает приемы авангардного кино, которые становятся столь же пошлым трюком, как пожары или погони в кино коммерческом. В результате, с горечью подумал Синьков, все, к чему ни прикоснется кинематограф, немедленно приобретает столь неприятные всякому художнику черты массовой продукции, ширпотреба и коммерции. И если это так…
Когда Синьков подошел к автобусу, уходившему в город, все места были заняты, но мысль о том, чтобы дождаться следующего автобуса и побыть еще четверть часа на площадке, показалась ему сейчас настолько непривлекательной, что он предпочел уехать стоя.
В автобусе много говорили о сегодняшних съемках, и в репликах, которыми обменивался главный пиротехник со своим молоденьким ассистентом, Синьков отметил усталое довольство людей, славно поработавших и удовлетворенных своим вкладом в общее дело. Кино, как и более древние жанры искусства, требовало от своих служителей самопожертвования, и эти люди шли на него сознательно, даже радостно. Синьков отметил, что они ощущают себя именно соучастниками творческого процесса и вовсе не приравнивают себя к простым столярам, даже к столярам, сколачивающим подрамники. Скорее, они были каменщики, возводившие стены величественного, хотя и не очень понятного им здания. Синьков ощутил смешанное чувство зависти и досады, потому что хотел бы разделить эту их причастность, но он все еще не мог забыть утреннее надругательство над монологом, а оно-то, наряду со съемками каскадеро, вероятно, и составляло главный успех дня. Смятение Синькова усиливалось тем, что назавтра предстояли съемки его собственного эпизода, и только что, в автобусе, один из ассистентов напомнил ему об этом.
Ознакомительная версия. Доступно 20 страниц из 96