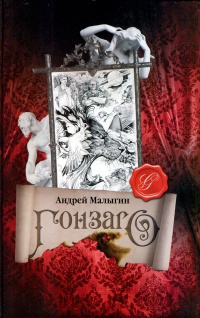Правда, для многих было утешением, что в самом начале Кельнерштрассе, не доходя до сталепрокатного завода, находилось правление, КПГ, здесь же выпускали и газету «Фрайхайт», которую, как надеялись товарищи коммунисты, читали и в «Штальхофе», а в одном из номеров, кстати, сообщалось, что господин Великий инквизитор сталепрокатных заводов пригласил политика Гитлера выступить с докладом на заседании клуба промышленников города, а после доклада от всей души пожелал успеха его движению и сам очень прочувствованно аплодировал, в то время как на холодной улице, на самой красивой площади города – Корнелиусплатц, где весной несколько дней подряд цветут магнолии, стояли люди – это левые партии и профсоюзы вышли на демонстрацию протеста, хором выкрикивая: «Гитлер – это война».
Это были новости из другого мира, которые не вносили перемен в ход жизни на улице Кельнерштрассе, но приводили к демонстрациям, люди под красными и черными флагами, словно на похоронах своего соратника, шли от редакции газеты «Фрайхайт» мимо сталепрокатного завода к рыночной площади Обербилка, самому центру района, где обычно строились все баррикады, и потом – в направлении кладбища Штоффелер, где покоились герои, где жизнь склонялась перед смертью и где колонны демонстрантов рассеивались.
Колонны людей, словно туго натянутые нити основы, шли по трамвайным и железнодорожным путям, сходясь в одной точке. Люди торопливо, как ткацкие челноки, сновали туда-сюда, перебегая от одной колонны к другой, оставляя после себя невидимый узор своей траектории, и все равно неминуемо уходили потом в чугунные ворота заводов. Единый ткацкий станок рабочего квартала ткал свой собственный узор. Машины и уголь вместе создавали гигантскую энергию, которая намного превосходила энергию людей, придумавших сначала ткацкие станки, потом заводские станки, людей, которые добывают уголь для этих станков, неутомимо выгребая его из недр земли. Все они превратились теперь в маленькую деталь единого гигантского механизма, в деталь, которой легко найти замену, а сам механизм мог теперь существовать и без них, людей отправили в отставку, они не были больше творцами своего мира, не они правили на этой земле, они были лишь маленькими, беспомощными тварями, которые находились в подчинении у машин, тонкой уточной нитью в ткани нового мира.
Вместе с добряком Германом, у которого оказался мотоцикл и который знал, где дают в кредит под проценты, Мария объезжала один мебельный магазин за другим. Она присмотрела квартиру и теперь покупала две кровати для спальни, две тумбочки с лампами, комод с зеркалом и четырехдверный платяной шкаф, все из цельного дуба, а для кухни посудный шкаф из трех секций из американской сосны с тремя выдвижными ящиками, три дверки вверху и три внизу, верхние – застекленные, еще один такой же шкаф из одной секции, стол, четыре стула, плиту с вытяжкой, почти новую, которую по случаю спроворил ей добряк Герман. Плита представляла собой эдакого монстра из никеля и эмали и напоминала старомодный сейф, вся конструкция сгодилась бы, пожалуй, на топку для локомотива, поднять ее было трудно даже вчетвером, в какой-нибудь заводской столовой она бы очень пришлась к месту. Мария расплачивалась наличными, она сняла все деньги со своей сберкнижки, всю свою сиротскую пенсию и всю зарплату, этим накоплениям семейство Фонтана немало удивлялось, потому что бережливость была ему доселе неведома.
Мария окончательно вступила в этот величественный семейный союз, который был для нее какой-то экзотикой. Личная свобода сбивала ее с толку, в Гельзенкирхене все ложились спать в одно и то же время, если один вставал со стула, другие поднимались тоже и быстро забирались в постели. Здесь же один в изнеможении валился в постель, а другой в этот момент как раз вставал, прихорашивался и шел в город, причем это могло случиться в любое время суток: утром, днем и вечером. Завтраки, обеды и ужины происходили когда попало, Фэн готовила, когда ей вздумается, и все тоже приходили и уходили, когда им вздумается. Было неясно также, кто ходил на работу, а кто нет, при этом работа вовсе не означала что-то постоянное. Даже Густав, глава семьи, казалось, вел несколько видов деятельности одновременно, говоря попросту: «Да есть тут у меня кое-какая работенка», и если что-то срывалось, в другом месте обязательно открывались прекрасные перспективы, на постоянную работу он никогда не решался, она помешала бы его многочисленным увлечениям. Если Фэн нужны были деньги, каждый шарил у себя в карманах, нет ли там чего, если денег оказывалось маловато, то и стол был скудный, а если собирали много, то Фэн закатывала настоящий пир, стол ломился, а если совсем ничего не было, то всегда можно было отправиться в ресторан к Вильгельмине, она кормила в долг и тут же забывала об этом. Мария была новым цветом в гамме, новым видом плетения, вяло обвисшие нити основы натянулись заново, их пронизала свежая, крепкая уточная нить, было похоже, что вот-вот появится новый узор. И Густав, который ощущал все это именно так, пригрозил Фридриху поркой, если тот не постарается вести себя впредь должным образом.
Мария твердо сказала, что венчаться будет в церкви и по католическому обряду. Что касается детей, то тут тоже нет никаких сомнений, крещены будут в католическую веру. Эта был первый бой, который Мария объявила семейству Фонтана, – и выиграла его без труда. Ни церковь, ни религия никого здесь не интересовали, никто даже вспомнить не мог, когда он в последний раз был в церкви. На вопрос Марии, в котором крылась насмешка: «А вообще-то Фридрих и Элизабет – крещеные?» – Густав с невинным видом ответил: «Я думаю, нет». Внутренне ужасаясь, Мария сказала ему, что ведь он должен по крайней мере иногда вспоминать о церкви, но Густав помотал головой и сказал в ответ «Я еще никогда в жизни не бывал в церкви». Тогда Мария потребовала показать ей метрики. Густав продолжал в задумчивости сидеть на своем кожаном диване, потом провел рукой по гладко выбритому затылку, пожал плечами и принялся рыться на книжных полках, а Мария удивленно на него смотрела. В разделе «Доисторическая литература» он обнаружил Библию, полистал ее, но метрик и там не оказалось. Густав погрузился в неясные воспоминания, события самых давних времен всплывали отчетливее. «Поначалу-то все были гугенотами», – пробормотал он, но это и без того все знали, история семейства была всем известна: шелковая мануфактура в Лионе, Фонтана в Изерлоне, где развился мощный семейный клан, совестливые пасторы, честные торговцы, гордые владельцы фабрик, которые по-прежнему выпускали изделия из меди, до сих пор сохраняли верность своей традиционной отрасли, они навели справки даже о флорентийских Фонтана, узнали, что Фонтана переселились в Лион из Флоренции, те-то уж точно были католиками, некоторые, может быть, и из секты вальдеисов. Густав, который до сих пор еще сохранял контакты с изерлонцами, припомнил, что те искали какую-то семейную Книгу Ткацких Узоров, и еще вспомнил, что его отец получил от одного дюссельдорфского нотариуса бумаги, целый сундук никем не читанных пыльных документов, написанных еще старинными буквами; несколько десятилетий назад он однажды их видел, но никогда не разбирал, и книга, может быть, тоже там. Где же сундук? Густав захотел найти книгу. Фантазия у него разыгралась. Теперь его интересовала эта книга, и больше ничего. Но ответа на вопрос о метриках Мария так и не получила. Она не интересовалась прошлым, ей нужны были метрики. Фэн сказала: «Если Фридриха не крестили, то и метрик никаких нет, тогда ему придется креститься сейчас, вот тогда он и получит небесное свидетельство». Мария пришла в ярость и закричала: «Вы что, все язычники тут?» Густав заорал в ответ: «Язычники – самые терпимые люди на земле, они ни во что не верят, зато уважают чувства каждого, у кого есть вера». Мария начала все с другого конца и попыталась найти метрики в школе, но и от школы толку было мало, Элизабет и Фридрих учились в светской школе д-ра Шранка, в лучшей школе города, по всеобщему мнению, но религия там тоже никого не интересовала. Тогда Мария приступила к инквизиторскому допросу Фридриха, добиваясь от него, чтобы он вспомнил, католик он или протестант. Фридрих не знал. Ничего не знала и Элизабет. Помнят ли они причастие? Или конфирмацию? Фридрих прекратил все это гадание на кофейной гуще, сказав, что на рынке его прозвали мусульманином, потому что он здорово умеет торговаться.»Мария сдалась, в глазах у нее блестели слезы, этого Густав уже никак не мог вынести, он выдавил из себя: «Спросите Вильгельмину, может быть, Ивонн что-то с ними делала, мне кажется, она была протестанткой».