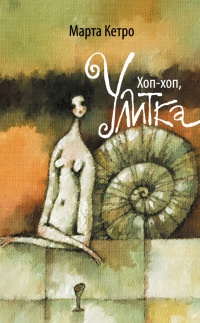Со временем все забыли, что когда-то было иначе, и национальный характер Ван Остенов был признан добродетелью. Одним из тех редких случаев, когда кто-либо из членов семьи публично высказывался о политике, стала газетная статья 1900 года, где отец Георга затронул вопросы иммиграции. Тогда он написал, что его род обратился к Дании не из шовинизма, а из-за стремления к концентрации, и именно поэтому он предупреждает против продолжения начавшейся в прошлом столетии иммиграции евреев, поляков и цыган, а также против эмиграции в Америку. «Датская культура, — писал он, — это жидкость, для дистилляции которой потребовалось тысячелетие. Если мы непрестанно будем получать вливания чужеродных суспензий или сами будем выделять сильные соли, то в этой жидкости никогда не образуется то равновесие, которое позволит нам посмотреть сквозь неё на свет и действительно понять, что значит быть датчанином».
Когда Георга ван Остена во время последнего интервью перед переездом на Конгенс Нюторв спросили, не откроется ли компания в XX веке другим частям света, он спокойно ответил: «Мы никогда не были закрытыми. Мы не боимся иностранного. Мы граждане мира и европейцы. Но в первую очередь мы датчане».
Этот ответ Ясон прочитал вскоре после того, как встретил Хелену, и ему не показалось странным это утверждение. Удивляло его нечто другое. А именно — совершенно непонятные условия приёма на работу слуг в этой семье.
Все знали, что во всех поколениях рода Ван Остенов в доме жил индиец, очевидно, занимающий должность доверенного слуги, и в дистиллированно датском окружении семейства эта фигура была столь неорганична, как была бы пальма посреди буковых лесов на картинах Скоугорда,[53]в большом количестве хранящихся в семейной коллекции.
Говорили, что этот странный обычай возник полтора века назад и что всегда слугами были сыновья из разных поколений одной и той же индийской семьи, из какого-то места в Индии, и Ван Остены из поколения в поколение продолжали приглашать их в Данию. Рассказывали, что приезжали всегда юноши моложе двадцати лет, и что оставались они в стране семь лет, после чего возвращались домой, и следующий слуга занимал их место. Действительно ли так обстояло дело, никогда не было доказано. Свет же видел, что эти темнокожие мальчики с точёными лицами и нежными губами очень скоро начинали говорить на безупречном датском без всякого акцента, а потом — всегда одетые во фрак, как будто они были одновременно дворецкими и гостями — вставали между семьёй и остальным миром, и делали они это настолько убедительно, что все забывали, что кожа их, строго говоря, неправильного цвета, или прощали им это. Когда Ясон написал Ван Остенам письмо с просьбой о встрече и когда на его вопрос пришёл любезный ответ, под которым стояло непроизносимое имя, то он понял, что, как и все прочие, кто на протяжении последних ста лет обращался к главе самого датского из всех датских семейств с просьбой, он сначала вынужден вести переговоры с иностранцем.
Во время этих переговоров ему не на что было пожаловаться, но именно потому, что приходящие к нему письма были одновременно и официальными и любезными и не содержали ни одной ошибки, они возбуждали его любопытство. Поскольку он страстно желал понять наконец любимую женщину, за те несколько недель, что остались до её возвращения, всякий вопрос о ней и её семье, оставшийся без ответа, создавал напряжение в его душе. Узнать, почему она никогда не навещает своих родителей, как чувствует себя дочь в такой идеальной семье, почему Маргрете и Георг ван Остены перед Амалиенборгом[54]своей любви поставили привратником какого-то черномазого, место которому у языческой пагоды, стремление получить ответ на эти и другие загадки стало для него навязчивой идеей. Тот Ясон Тофт, который 19 марта шёл по вечернему Копенгагену, был одержим своим любопытством, и поэтому мысли его бежали впереди него без помех, и во всём мире не было ни одной заботы, которая могла бы их остановить, и не было трамваев и машин, и даже под ноги ему было смотреть незачем — он парил.
Ясон размышлял о понятии «действие». «Скоро, — думал он, — через несколько часов я получу свои ответы. Тогда я буду готов встретить Хелену. После встречи мы сможем вместе пойти в будущее, в котором мы будем любить друг друга всё больше и больше и в котором я буду писать всё больше и больше книг и становиться всё более знаменитым, и всё это я положу к её ногам», — и он глубоко вздохнул при мысли о бесконечном круговороте своих чувств, беспредельном, безбрежном, до небес, росте своего мастерства и доходов.
Ещё в гимназии великие писатели-реалисты привлекали Ясона своей любовью к действительности. С исступлённым ощущением того, что речь идёт именно о его жизни, он прочитал Золя, Пруста и Понтоппидана.[55]И с глубоким разочарованием отвернулся от них, обнаружив, что они, в конечном счёте, не были верны действительности. Именно в это время он сам начал писать, и подтолкнула его сильная потребность рассказать миру, что действие в литературном произведении — это иллюзия. Полный восторга, он в юношеские годы узнавал самого себя в книгах европейских писателей о действительно существующих людях, чувствуя, что открытие реалистов, состоящее в том, что действительность — это рукопожатие, капля пота, урчащий желудок и каменный фасад, а не туманная символика романтизма, не затемнённые стереотипы религиозной литературы, и есть тот материал, из которого создана окончательная истина.
Пока он, в возрасте двадцати лет, не обнаружил роковую слабость этих писателей. Дело в том, что они соблазнились желанием довести свою действительность до конца, что они ввели в свои произведения действие.
На самом же деле, как обнаружил Ясон, действия не существует. Действительность состоит из множества бесконечных циклов, таких как, например, тот, который он сейчас собирается начать, жизнь вырастает из неясного начала в бесконечность, а финал, который необходим длл действия, — это чистая выдумка.
Он и писал, и говорил, что все несчастья современной литературы начались, когда Флобер — который как раз только что преодолел ошибки своей молодости — решил привести мадам Бовари к невероятно героической смерти.
Именно эта проницательность, как он знал, и обеспечила ему возможность встретиться с Ван Остенами. В своём письме он не упомянул Хелену, он не хотел, чтобы они знали, что он их зять, он хотел, чтобы его принимали как писателя, а не как будущего родственника. Ему задали вопрос, что же за произведение он собирается написать, и в своём письме он ответил, что собирается написать книгу о трёх основополагающих условиях существования датской нации и её будущего в эти в целом трудные годы. Он хочет написать о богатстве, любви и о духовной свободе, и при этом изобразив людей, играющих заметную роль в воплощении этих трёх принципов, — и если я обращаюсь к вам в первую очередь, то это — позвольте мне сказать прямо — потому что вы олицетворяете все три принципа». Тогда его спросили в ответном письме, как он представляет себе художественную составляющую в этом случае, и на это Ясон ответил, что он прекрасно осознаёт, что изменил значение слова «художественный». «Я не пишу художественное произведение, — написал он, — в значении „сочиняю”. Я наблюдаю, и в вашем случае то, что я наблюдаю, представляет собой вечные ценности. Я не собираюсь придумывать действие. Представить себе вечность при помощи языка такой, какая она есть, а именно без начала и без конца, — вот в чём моя задача».