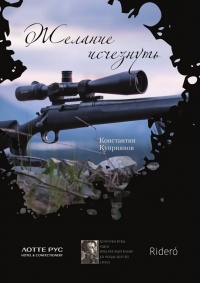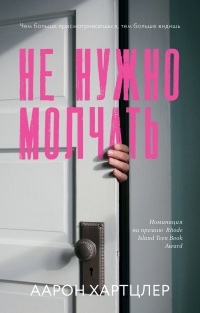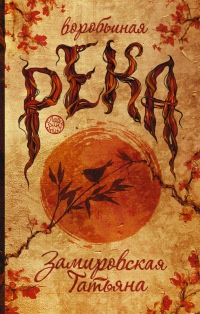Ознакомительная версия. Доступно 18 страниц из 89
Еще за тысячу рублей женщина принесла в тот же вечер заполненную на Анину девичью фамилию трудовую книжку: последняя запись утверждала, что Аня три года проработала в том же паспортном столе. Аня Найман поняла, что переплатила.
Она знала, что денег – жить в деревне – ей хватит до конца жизни, но тратила осторожно, торгуясь за каждый рубль: деревенские не могли знать о ее богатстве, а то оберут. Или того хуже. История для местных была та же, что и для тети Дони: муж умер, был военный, ей за него платят пенсию. В городе на нее не проживешь, а в деревне можно. Если не тратить попусту. Местные кивали и старались урвать побольше.
Детей бог не дал.
Окна, пока не ударили морозы, Аня Найман расконопатила и перемыла сама, протерев старой ветошью насухо. Она решила заказать плотнику Федору Федоровичу новые рамы на следующее лето, но первую зиму придется жить со старыми. Федор Федорович был по причине желудочной болезни большей частью трезвый, и Аня Найман на него полагалась, но задаток платить отказалась до начала работ: она понемногу вживалась в деревенское житье и хотела себя в нем поставить, а то отношение так и останется – как к городской.
Прежнее Аня вспоминала мало. Прежнее – жизнь жены главного российского олигарха, прежнее – со своими самолетами и слугами, прежнее – окруженное охранниками и наполненное множеством ненужных людей – казалось сном, привидевшимся на берегу сонной, ленивой, чуть колышущейся воды, на которую Аня теперь глядела через мутное стекло своей нынешней жизни. Когда вспоминала прежнее, то отчего-то именно Марка, а не дочек, про которых не думала вовсе. Ей казалось, что никаких дочек у нее не было, только изредка – отчего-то утром, встав и затопив печь, – Аню подчас пронизывала острая, как рыбья кость, боль о почти прошедшей, об отданной этим чужим ей девочкам и мужу жизни. Словно спала и очнулась. И теперь станет жить только для себя.
Она не винила Марка за украденное у нее время: он с ней расплатился. Он ее любил, любил с первой минуты, как увидел – первокурсницу Московского вечернего металлургического: ей не хватило баллов поступить на дневной в Политех.
Марк Найман – самый знаменитый выпускник института – каждый год приезжал произнести речь перед вновь поступившими студентами. Речь Марка была каждый год одна и та же: вы все хотели поступить куда-то еще и стать кем-то еще; я тоже хотел, но поступил сюда, и неплохо получилось. Студенты смеялись, аплодировали, Марк улыбался, кивал и быстро уезжал. А в том сентябре Марк Найман увидел ее и остался. И она осталась с ним – пока не проснулась.
Так и случилось: Аня Найман проснулась холодным весенним утром в старой избе, поставленной то ли прадедом, то ли кем еще, и села в бабушкиной кровати. Бабушка в этой кровати умерла, а Аня Найман хотела жить. Она почувствовала, что зима окончилась, с ней окончился и зимний сон ее жизни. За окном еще не таяло, но таяло у нее внутри, словно в ней звенела капу́ль. Аня – гусеница, медленно, мучительно медленно выползающая из надоевшего, навязанного ей кокона, – прислушалась к ритму звеневшей в ней оттепели и услышала: время жить заново. Аня Найман расправила выросшие у нее прозрачные крылья и взлетела.
Она вспомнила, как, проходя по берегу рядом с маленькой покосившейся от северного ветра пристанью, встретила того же военного, с которым делила автобусное путешествие из родного города в деревню. Военный остановился и подождал, пока она с ним поравняется. Аня поравнялась и тоже остановилась.
Посмотрела ему в глаза.
Он смутился, не знал, что сказать. Аня не хотела ему помогать: не знает, и не знает. Значит, не стоит ее внимания.
– Я вас раньше видел. – Он отвел взгляд, затем посмотрел на нее. Решился: – Мы с вами в автобусе ехали.
Аня кивнула. Ехали. И приехали.
У него было славное некрасивое лицо: серые глаза и чуть скошенный влево нос. Он был немного ниже Ани и стеснялся от этого еще больше.
– У вас форма странная, – сказала Аня. – Как у летчиков, но другая. Вы летчик?
Военный засмеялся. Когда смеялся, он был еще некрасивее. Ане это понравилось.
– Здесь летать некуда. Сразу видно, что вы приезжая. Издалека к нам? Надолго?
– Насовсем, – сказала Аня. – Кто же вы, если не летчик? Где работаете?
– А здесь все в одном месте работают, – сказал военный. – Вы, кстати, работу не ищете? А то у нас как раз место освободилось: инспектор в декрет пошла.
Он кивнул на гранитный остров в середине большой воды. Аня знала, что раньше там был монастырь, а потом что-то страшное. Бабушка рассказывала.
– Это где расстреливают, что ли? – спросила Аня.
Мужчина сразу стал Ане интересен: вдруг он сам и расстреливает? Словно мурашки внутри.
– Уж давно не расстреливают… – Военный вздохнул, словно жалел о хороших, навсегда ушедших временах. – Теперь содержим пожизненно. Хотя и не стоило бы.
Он улыбнулся:
– Давайте знакомиться: начальник ИК-1.
Он назвался.
Аня тоже назвалась. Своим настоящим именем.
Марк в ее жизни все переиначил. Поменял. Даже имя ей дал другое: как вас зовут, спросил Марк в узком актовом зале института. Анастасия. Я вас буду звать Аня: ведь так вас никто не зовет.
Это был не вопрос: утверждение. Теперь все утверждения Марка Наймана о ее жизни закончились. Теперь Анастасия Кольцова носила свое имя и утверждала свою жизнь сама.
На следующей неделе, взяв купленные в Езерске паспорт и трудовую книжку, она пошла по деревянным мосткам туда, где одни люди держали других взаперти пожизненно. Это было правильное место для нее – бабочки, выпорхнувшей из себя самой и взмывшей в небо.
Шоу
В этом месте был переход: здесь закончилось, там началось. Оттого Каверин и боялся переступать порог при каждой встрече. Переступал и надеялся, что все это многолетнее неявье окажется наваждением, мо́роком, привидевшимся ему дурным сном: открыл глаза, и ясный день. Он переступил порог.
Слонимский, как обычно, улыбался – открыто, радостно, искренне, и потому Каверину было еще страшнее. Он подождал, пока Слонимский сдернет улыбку с красивого черноглазого лица, будто оторвет пластырь, и кивнет на отдельно стоящий у столика из матового стекла стул: садиться без приглашения Семен Каверин остерегался. Он помнил, что случилось с Костей Муратовым, ослушавшимся Слонимского много-много лет назад – по глупой мелочи. Слонимский улыбнулся, и к вечеру Муратова не стало. Даже тела не нашли. Так и закопали пустой гроб. Потому лучше поостеречься, перестраховаться, проявить робость. Пусть разрешит сесть на стул, тогда и сядем – на краешек.
Он, впрочем, знал, что робость не спасет: если Слонимский решит по своей причине, что Каверин больше не нужен либо опасен, нет Каверина, и все. Минуты не пройдет.
– Семен Михайлович, Семен Михайлович, что же вы, дорогой, нам не звоните, не пишете, не шлете денежных переводов, – затараторил Слонимский. – Совсем нас забыли, забыли. А мы вас помним. Скучаем. Слезы льем. Ты ведь льешь по Семену Михайловичу слезы? – повернулся он к Ангелине.
Ознакомительная версия. Доступно 18 страниц из 89