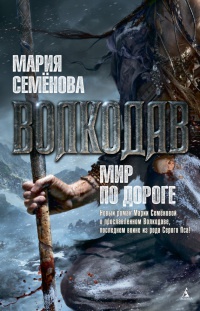пришлые люди, оказавшие себя отъявленными смутьянами, поселились в бывшем доме преступника, осуждённого за насилие, едва не кончившееся убийством…
– Значит, вот как теперь в Саккареме называют оговор, неправый суд и загубленное имя? – негромко, но очень зловеще спросил Волкодав.
Первоначальная вспышка, бросившая людей на улицу, успела выгореть. Кажется, только у него да ещё у матери Кендарат на лице и в голосе не появилось некоей обречённости: и отступиться от друга нельзя, и отстоять не получится… Решиться на открытый бунт? Спасаться потом от не знающих жалости «золотых»?..
Только у венна и жрицы здесь не было обширной семьи, о которой невольно задумывается человек, взявшийся противостоять власти.
Наверняка во дворе многие уже гадали, стоит ли чужак-халисунец ссоры с наместником. И многоопытный вейгил, конечно, понимал это лучше всех.
– Говорят, когда-то в стране Богини чинили суд, а не только расправу, – сказала мать Кендарат. – Я слышала, в те благословенные времена было принято сперва заручаться надёжными свидетельствами учинённых злодейств, а человека заточать уже потом. Скажи людям, благородный вейгил, что за вред нанёс этот сын пекаря правоверным людям Дар-Дзумы?
Все набольшие слоёными булочками объелись, посетила Волкодава неподобная мысль. Он уже знал, какого стражника отшвырнёт первым, каких – потом, если Иригойена всё-таки придётся отбивать силой. Неясно было другое: откуда взялась глухая тревога, прочно поселившаяся внутри. Он понимал только, что к разбирательству она никакого отношения не имела.
Наместник между тем хотел ответить, но настоятель храма положил руку ему на плечо. Все взгляды обратились на жреца. Старик набрал воздуху в грудь… и согнулся в тяжёлом приступе кашля.
Дар-дзумцы почтительно ждали, чтобы он отдышался. Все помнили, как пятнадцать лет назад он стоял на коленях в ядовитом дыму, вымаливая прощение многогрешному городу. Почтения не исполнился один Волкодав, знавший, что по пятнадцать лет лёгкие не выкашливают. Хотя… почём знать, насколько отличалась болезнь жреца от рудничной хвори, едва не убившей его самого?
– Брат мой, облечённый мирской властью, – наконец выговорил настоятель. – Вели своим стражникам отпустить халисунца и больше не налагать на него руки. Это я во всём виноват.
По людской толпе прокатился ропот, и опять стало тихо.
– В том, что наш город оставил праведное служение и, прельстившись сладкими песнопениями, обратился к чужеземному поклонению, виноват только я, нерадивый и недостойный, – скорбно продолжал жрец. – Я не умел дать людям ни наставления, ни духовного водительства. Во дворе храма Владычицы завёлся бурьян… Одари же меня, государь и брат мой, местом в подвале для самых подлых людей, чтобы я мог там поразмыслить о своём ничтожестве. Назавтра же выстави меня под плети и отмерь мне их не скупясь, как я заслужил…
В толпе ахнули.
Вейгил поднял руку и кивнул стражникам:
– Ты сказал, брат мой… Отпустите халисунца.
Растерянность Иригойена сразу куда-то делась, он вскинул голову:
– Святой господин мой! Ты совершенен годами, твоё тело изведало труды времени и не выдержит наказания. Господин вейгил, отдай мне плети, которые будут отмерены святому старцу!
Бизар шагнул вперёд:
– И мне!
– И мне! – сказал Захаг.
– И мне, и мне! – раздались вдохновенные голоса.
– Никогда не переведутся люди, гораздые играть чужим благородством, – со вздохом пробормотала мать Кендарат.
Волкодав едва не шагнул вперёд вместе с другими, но его остановила неестественная тишина, внезапно воцарившаяся за пределами людской суеты. На площади не стало слышно ни голубей, ни воробьёв. За забором притихли гуси. И даже горластый петух на соседней улице словно подавился и смолк.
Над каменной преградой в теснине вздыбился вал высотой в четыре сажени. Бурый, в грязных космах, неудержимый и страшный. Разгневанная река легко махнула через плотину. Камни величиной с сарай покатились вниз, точно пустые орехи. Вода, вливавшаяся в зев тоннеля струёй примерно по бедро человеку, в мгновение ока взметнулась до потолка. Крепи из привозного дуба, пропитанного особым составом, захрустели, как готовая сломаться лучина.
Бывший стражник по прозвищу Палёная Рожа, дремавший в сторожке, проснулся от несусветного грохота и оттого, что лежак под ним ожил и начал брыкаться, точно норовистый осёл. Смотритель щита испуганно вскинулся и увидел небывалый поток, рвущийся из нижнего конца водовода. Земля под ногами дрожала и как будто раскачивалась. Вода выхлёстывала наружу чудовищным бурым столбом, начиная вспениваться и дробиться лишь через несколько десятков шагов. Каменные пустоши у подножия скал на глазах оборачивались озером, и оно уже подступало к сторожке.
Палёная Рожа в чём был выскочил вон. Вода неслась к городу, не помещаясь в канал. Тот уже скрылся из глаз, выделяясь лишь бешеной стремниной посередине разлива, как выделяется рвущийся в море поток, взбаламученный половодьем. У края садов вода вливалась в трубу, и просторная труба захлёбывалась. Вот из неё выломало кусок, потом ещё…
Палёная Рожа не знал, почему это произошло, но он помнил, как следовало поступить. К счастью, господин зодчий расположил механизм, управлявший щитом, в двух шагах от сторожки. Сбросив первоначальное оцепенение, смотритель перебежал туда и со всей возможной быстротой завертел колесо. Скрипа цепей не слышно было за рёвом воды. Противовес, точно рассчитанный Кермнисом Кнером, легко пошёл вверх. Нижняя кромка запорного щита врезалась в воду. Взвилась сплошная стена брызг. Вертеть колесо сразу стало труднее, но смотритель не сдавался. Сейчас щит встанет на место, и всё успокоится.
Палёная Рожа успел даже подумать, что его, наверное, наградят…
– Какова твоя вера, сестра? – спросил настоятель.
– Моя вера, – сказала мать Кендарат, – учит, что Небо едино на всех. Людям не легче постичь природу Создавших Нас, чем муравью – вообразить человека. Поэтому каждое племя рассказывает своё, и нет в том греха. Что же до меня, я избрала служение Милосердной Кан, давшей людям свойство сострадать и любить…
Волкодав услышал её хорошо если наполовину, потому что всем телом ощутил тяжкий стон земли, неразличимый для обычного слуха. Одновременно на холме, в нескольких улицах от вейгилова двора, завыл Рыжий. Ему тотчас отозвались собаки по всему городу. По ту сторону изгороди захлопали подрезанные крылья, начался неистовый гогот: с пруда силились взлететь гуси.
– Плотина!.. – закричал Волкодав.
Но это оказался не прорыв воды, подточившей плотину, а нечто существенно более страшное. Люди обернулись, как раз когда мерный стон цората взвился погибельным воплем, потом резко оборвался – и древнее колесо, тяжеловесно подпрыгнув, пропало из виду. Одновременно стронулось с места нечто настолько громадное, что сама природа вещей как будто обрекала его на незыблемость. Целый кусок горной стены, не менее версты шириной, словно бы разжижился по всей высоте и потёк вниз.
Расстояние делало это пока ещё беззвучное истечение медлительным и почти прекрасным.
В