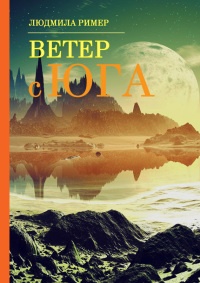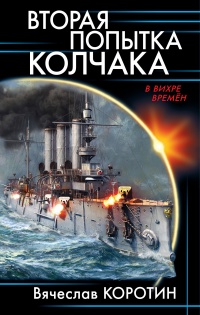Мирцея вскочила и дико заорала:
– Кто-нибудь! Прекратите это немедленно! Вы что, не видите – она сошла с ума!
Элида внезапно выпрямилась в кресле и громко приказала:
– А ну заткнись, дура! Чего разоралась! Разбудишь моего мальчика, и он будет плакать. А вы что все уставились? Пошли все вон, вы мешаете моему сыну кушать. Вот видите, он опять выплюнул сосок… Во-он!
Мужчины вскочили со своих мест и в замешательстве сгрудились на противоположной стороне стола. Грасарий, мгновенно постаревший и осунувшийся, тяжело поднялся и, шатаясь, подошёл к жене, всё ещё пытавшейся засунуть сосок в рот ребёнка:
– Элида, давай уйдём отсюда. Пойдём в твою комнату. Дай мне сына, и пойдём.
Грасарий протянул руки и дотронулся до мёртвого тельца, но Элида вдруг оттолкнула его и с силой прижала ребёнка к груди:
– Нет! Никуда я не пойду! Я и так в своей комнате и никуда не собираюсь уходить! Это они пришли! Зачем они сюда пришли? – Она заглянула в лицо мужа, и в глубине её безумных глаз вдруг вспыхнула радость: – А-а, я знаю! Знаю! Они пришли нам сказать, что все-все дети Рубелия сдохли… И мой сынок с сегодняшнего дня будет Повелителем! Да, смотри, они и корону ему принесли! Эй, парень! Ты, ублюдок вонючий, ты! А ну-ка сними со своей башки корону и быстро подай её сюда! Как ты посмел надеть на свою поганую нашлёпку корону Повелителя! Одарий сейчас же прикажет отправить тебя в Саркел! И ты будешь там плавать… плавать… плавать…
– Боги всесильные! Да отправьте же кого-нибудь за лекарем! – Мирцея сжала руками лопавшиеся от боли виски. Она повернулась к белому, как полотно сыну, смотревшему на всё происходящее остановившимся взглядом, и зашипела: – Прикажи же им наконец! Тряпка!
Дёрнувшись, как от пощёчины, Патарий с ненавистью взглянул на мать и заорал:
– Лантары! Выведите отсюда эту женщину! Заприте её в комнате! И лекаря к ней! Живо!
Двум крепким мужчинам потребовалось немало времени, чтобы вытащить из кресла и вынести отчаянно сопротивлявшуюся женщину. Грасарий вначале пытался её успокоить, произнося какие-то слова, но, поняв, что жена его просто не слышит, умолк. С окаменевшим лицом он вышел вслед за Золотыми Мечами. В наступившей тишине стало слышно, как тяжело дышит, вытирая багровое лицо, Самус Марталь. Молчание нарушил Патарий:
– Главный судья! Я поручаю вам расследовать это… происшествие. А так как здесь затронута честь моей семьи, приказываю сегодня же лично доложить мне всё, что удастся выяснить.
Мирцея обвела взглядом мрачные лица занявших свои кресла мужчин:
– Повелитель прав. Честь семьи затронута. Нас… – она кивнула в сторону сына, – обвинили в страшном преступлении! Хотя, клянусь всеми Богами, никто из Корстаков к этому не причастен. Вы сами всё видели – она сошла с ума и готова обвинить в своём горе весь белый свет!
– Но ребёнок ведь умер… – Турс Либург откашлялся и поднял на Мирцею глаза. – И мы все свидетели тому, что он мёртв.
– В вашем войске детей нет, уважаемый долонит, поэтому вам простительно не знать, что такое случается. Не часто, но случается, когда здоровый с виду малыш засыпает и больше уже не просыпается. Умирает во сне. И любой лекарь подтвердит вам мои слова. Но, довольно об этом! – Мирцея вяло махнула рукой и встала, давая понять, что заседание на сегодня закончено. – Все свободны!
Патарий покосился на мать и тоже встал. Члены Совета поднялись и, возбуждённо переговариваясь, потянулись к выходу.
– Ты не должна себя так вести! – Голос сына звенел от ярости. – Здесь я – Повелитель, и только я имею право отдавать приказы!
– Конечно, только ты! Но сначала научись это делать, мой дорогой! – Она устала. Безумно устала, и ей абсолютно не хотелось спорить с этим строптивым мальчишкой. – Тренируйся… и когда-нибудь у тебя это обязательно получится!
Мирцея повернулась и медленно пошла к двери, оставив за спиной кипящего от негодования Патария.
Коридор был бесконечным. Она шла, шла и шла, а он всё никак не кончался. Боль, вонзившаяся в правый висок ещё в Зале, теперь расползлась, нагло хозяйничая во всей правой половине головы, вызывая подступившую к горлу тошноту. Перед глазами мелькали какие-то серебристые мушки и вертелись блестящие змейки, и женщина начала бояться, что не разглядит за их сумасшедшим танцем нужный ей поворот.
Низ живота пронзила дикая боль, и Мирцея, охнув, присела. Вокруг всё плыло, и она, чтобы не упасть, ухватилась рукой за стену. Боль не отпускала. Казалось, кто-то невидимый воткнул в её лоно раскалённый кинжал и проворачивает его там с какой-то звериной злобой.
Она закричала, с ужасом понимая: её голос в пустом коридоре оказался таким слабым, что его вряд ли кто-то услышит даже за ближайшим поворотом. «Умираю… Боги, я же умираю… Почему… Я не хочу… Нет, только не сейчас… я не могу умереть сейчас… Ведь я только… Какая бо-оль… Я… я не хочу прямо здесь… в этом коридоре… Больно-о… не-е-ет… только не зде-е-есь…»
Боль исчезла так же внезапно, как и появилась. Мирцея, скорчившаяся у стены, замерла. Она боялась шевельнуться, ещё не веря, что мучение прекратилось. Больше всего ей сейчас хотелось добраться до своей постели и уткнуться в мягкую подушку, укрывшись с головой лёгким одеялом из шкуры лесной рыси.
Женщина тихонько распрямилась, глубоко вдохнула и решительно двинулась по коридору. Она не сделала и нескольких шагов, как между её ног что-то хлюпнуло, и по бедру потекла горячая струйка. «О, Боги, нет… Опять! Когда же это закончится?!» Эта мысль была последней. В голове вдруг жутко зазвенело, будто кто-то настойчиво начал колотить маленькими молоточками по большому золотому блюду. Свет померк, и Мирцея потеряла сознание.
События следующих нескольких дней она не помнила. В ушах стоял гул, мешающий сосредоточиться на какой-то одной мысли. Женщина то открывала глаза, с трудом пытаясь понять – это дневной свет пробивается через неплотно задёрнутые шторы, или мерцание множества свечей старается побороть ночной мрак, – то снова проваливалась в за бытье.
Чьи-то руки протирали прохладной водой её лицо и тело, придерживали ей голову, вливая в рот какую-то жидкость, вкуса которой она не ощущала. Она с жадностью пила, стараясь тёплым отваром растопить образовавшийся внутри мерзкий холод, сковавший там всё и не дававший ей вздохнуть полной грудью. Иногда её начинала бить такая сильная дрожь, что тело сотрясалось под несколькими одеялами, и только прислужница Фасима, прижавшись к ней своим молодым горячим телом, могла слегка согреть Мирцею.
Из окружавшей её серой мути к ней выплывали лица, но женщина не всегда понимала, кто это. Однажды ей стало невыносимо страшно, и она дико закричала, пытаясь оттолкнуть от себя Рубелия, который держал на руках мёртвого синего ребёнка и презрительно ухмылялся… Но из её пересохшего горла выполз только жалкий хрип.
Как-то муть внезапно рассеялась, и Мирцея увидела, что над ней склонилось испуганное лицо её лекаря, что-то говорившего. Но, как она ни вслушивалась, не смогла понять смысла его слов и опять устало прикрыла глаза.