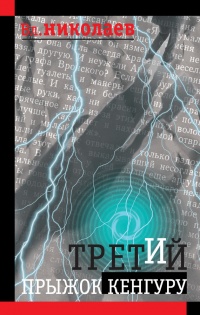«В десяти милях от шума и ужасов большого города, Сент-Луиса, улицы вьются и изгибаются, как проселочные дорожки, а близлежащие поля и леса напоминают о былых днях.
Но сейчас этот пригород полнится горем и страхом, напоминая всем о том, что происходит здесь в наши дни.
Кто-то ворует и убивает детей».
Чертовски сочное начало. Если бы я не знала наверняка, что моя матушка ненавидит «The New York Times» даже больше, чем монашек, я бы подумала, что эти строки написаны ее рукой.
Прежде, чем мой отец принял приход, в этом особняке жил престарелый священник, который оставил после себя шкаф, битком набитый фишками для покера и шнапсом цвета горного хрусталя. Легенда гласила, что он умер в своей постели и лежал, уставившись в потолок, пока тот не раздвинулся перед ним облаками. А после смерти вернулся, наполнил дом своим холодным присутствием, по ночам скрипел дверцей шкафа и пил «Саур-Эппл-Пакер». В бутылках с «Раззматаззом» и «Хот Дэмн!» уровень алкоголя никогда не понижался, но к «Саур-Эппл» кто-то периодически прикладывался и отпивал по глотку.
– Сеструнь, да этот дом был ПРОХЛЯТ! – говорит мне Мэри, когда я спрашиваю, помнит ли она что-то про те времена. – Прохлятее некуда! Там была куча огроменных призраков. Это они сосали то мерзкое пойло.
Затем после минутного размышления она добавляет:
– Либо так, либо его лакал Пол.
Когда мы переехали, я впервые обзавелась своей комнатой – на цокольном этаже, с широким окном, из которого открывался отличный вид на соседей. Мама велела нам никогда не общаться с ними, потому что они «семья наркоторговцев, и их дочь называет меня сукой». Звучало это как многообещающая завязка для ситкома.
Семейка Наркоманов часто затевала у себя на переднем дворе драки, во время которых их бледные тела бессвязно молотили друг друга и катались красочным кубарем по капотам своих машин, издавая вопли мятежников. Бывало, моя матушка выходила из дверей нашего дома, когда их побоище было в самом разгаре, и тогда до нас доносилось громкое: «Сука!»
– Не переживайте, я слежу за ситуацией, – мрачно заверяла нас мама и говорила, что «шпионит за ними в бинокль» и «ведет ежедневный журнал наблюдений за их деятельностью, включая похождения их блудной дочери», которая вылезала из окна своей комнаты по пятницам и субботам, начисто игнорируя предупреждения о том, что и она в любой момент может пропасть без вести.
Она была единственной, кто осмеливался на подобное. Дети в том городском пейзаже были как щербинки между зубами – куда ни пойди, их просто не было видно. Я никогда не слышала, чтобы дети играли на улице в скакалку, и не слышала упругих звуков баскетбольного мяча. Если я решалась отправиться куда-то в одиночку, за мной часто ползла какая-то машина, пока я не добиралась до места назначения. В городе было так тихо, словно он лежал под толстым слоем снега или плотным пуховым одеялом. На улицу никто не выходил. Вместо этого мы ходили в дом пророка.
Пророка звали Билли, и первым, что мы услышали, подойдя к его дому, было пение. Оно просачивалось сквозь потолок и нимбом зависало над скромной низенькой крышей. Мы с Кристиной, как обычно, опоздали на встречу, поэтому поскорее перебежали лужайку и осторожно отворили дверь, которую он никогда не запирал на ключ. Наши плечи сразу же распрямились, лица бестолково вытянулись, а рот раскрылся буковкой «О», словно мы ждали, что в него сейчас засунут куриное яйцо.
Когда Билли впервые основал свою молодежную рок-группу, он назвал ее «Божьей Бандой». Это было в середине 80-х, времена, когда родители верили, что члены музыкальных банд подкрадываются к окнам детских комнат по ночам и тихонько поют в щелку, а дети как сомнамбулы выходят из дома, вытянув руки вперед, и бормочут сквозь сон: «Ну все, настал и мой черед вступить в банду». Подростков особенно важно было удерживать дома, потому что иначе они бы спятили от давления сверстников и встали на скользкую дорожку преступничества. Так что выбор был невелик – либо вступить в «Божью Банду», либо стать частью Семейки Наркоманов, ходить вымазанным крэком и драться с собственным братом на капоте «Эль Камино» под зорким взглядом моей матери, стоящей у окна с биноклем.
Я спустилась вслед за сестрой в подвал, который на сорок процентов состоял из ворсистого ковра, а на шестьдесят – из библейских стихов. Это доказывало протестантское происхождение пророка. Стихи из Библии были… ничего, но нам казалось, что было бы эффектнее, если бы они сочились кровью, когда ты их читаешь. Мы тогда думали, что и заповеди начинают кричать, когда их кто-нибудь нарушает. Когда я не пускала слюни над поэтическими Псалмами, мое собственное изучение Библии обычно сводилось к тому, что я перечитывала истории о шлюхах и ослах, которых они вожделели, а еще задавалась вопросом: кто такая Охолиба и почему, черт подери, у нее такие круглые сиськи?
В дальнем углу мы увидели группу подростков, они сидели с закрытыми глазами и поднятыми руками, похожие на ощипанных цыплят. Они пели, и видок у них был странно уязвимый, как у людей, чьи души поднялись на поверхность и начали проступать на коже пятнами. Их голоса зазвучали громче, тоскливее и ярче, но медь еще не превратилась в золото, и мы могли успеть сделать свой вклад. Круг поющих приоткрылся в двух местах, мы с сестрой влились в него, и ее голос зазвучал над остальными чистой музыкой небес. «Господь – мой пастырь, да убережет меня от желаний», – гласил постер с лилиями у нее над головой, но мы пришли сюда, ведомые огромным желанием – пусть это и было всего лишь желание сбежать из дома, хоть куда-нибудь.
Певческая часть собрания длилась около двадцати минут, и обычно мы заканчивали песней «Божий Бананчик», состоявшей из одного куплета, который мы повторяли все быстрее и быстрее, пока не покатывались со смеху:
«Он наш Спаситель, Он ока зеница,Он срезает ветвь, когда та колосится,Всему свой срок в саду Его,Его любовь – вечный фонтанчик,И в ней зрею я, Божий бананчик!»– Почему ты вообще продолжала туда ходить? – время от времени спрашивает Джейсон, в ужасе от одной только мысли, что я ходила в тот подвал каждую среду пять долгих лет и во всеуслышание называла себя Божьим Бананом. – Моя группа была не такой. Для нас это был по большей части просто предлог собираться вместе и тыкать друг друга пальцами в автобусе воскресной школы.
– Ну, нас угощали газировкой, – неубедительно говорю я. – И никто из нас не ушел после того, как уже начал туда ходить.
Он начинает зачитывать христианский рэп, и я подключаюсь. К сожалению, мы помним каждое слово («ОЧАРОВАНИЕ ОБМАНЧИВО, ТЩЕТНА КРАСОТА! Когда женщина Бога боится, в игры играть НЕ СТРЕМИТСЯ!»). Мы так хорошо знаем этот жанр, что в той игре, где надо переключать радиостанции и за пять секунд угадывать, христианская песня играет или нет – по каким-то особенно обнадеживающим мотивам или словам в духе «Воспрянь!» – нам не было равных.
Правда в том, что тогда я искала себя и до сих пор не знаю, нашла ли. Иногда я подозреваю, что ходила туда просто потому, что мне очень нравилось петь. А где еще мне было петь, когда мне медведь на ухо наступил?