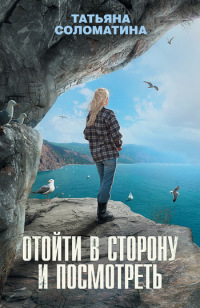Ознакомительная версия. Доступно 15 страниц из 74
Пообедал. Чаю напился. Голова от него даже замутилась – такого крепкого навёл. Перед глазами мушки побежали.
Отправился убирать во дворе, чтобы проветриться, на свежем воздухе побыть. И во дворе, и в стайках накопилось. Навоз уже неделю не выкидывал, всё ждал погоды.
Сыро. Крыша желобниковая, столетняя, прогнила. Двор-то дед ещё мой строил. По отцу Игнат Павлович Черкашин. Когда это было? В прошлом веке. До войны ещё. В годах двадцатых. Или тридцатых. Перекрыть бы. Нечем. Желобник новый делать? Трудоёмко: пихтач добрый нарубить, привезти его из леса, располовинить да жёлоб в каждой половине вырубить – не шутка. Работы на лето. И надо ли? Если продам-то всех – корову, тёлку и бычка. И двор будет ни к чему. На дрова его распилить – только. А заодно уж с ним и стайки. Гореть будут. И дом, как пуп, торчать останется. О чём печалюсь? О дне-то завтрашнем. Не знаю, что сегодня будет. Мать говорила: смешной человек, за час вперёд не видит, а за год, мол, загадыват. Про отца. А ей отец: дак чё-то думать надо, баба; дескать, не крот, а – человек: вперёд во времени и смотришь. Нет уже. Ни его, человека, ни её. А не хватает.
Вычистил в стайках, выкидал из них во двор. Привычно. И отец так раньше делал. После уж из двора, открыв ворота, перетаскал навоз на пригон вилами; жидкий – лопатой деревянной. Всякий раз так. Как заведено. И дед так же и тем же обходился. Конечно. И прадед. Раз крестьяне. И дальше, в глубину, в корень – до царя Гороха. После меня – некому. Как отсохло. Мало – крестьяне-то, ещё ж и – казаки.
За год гора нагромоздилась на пригоне, чуть не под крышу. Можно кому-нибудь продать. Его, навоз-то. Городские часто спрашивают. На свои дачи, на участки. Удобряют. Не яд, не химия – предпочитают. Правда, подъезд неловкий у меня тут – в гору. Кому надо, подберутся. Кузовом спятиться к забору вон – и набросаешь. Или тележкой. И самому на огород не помешало бы – вверху-то глина. В знойное лето, глызами окаменеет, в неё и ломом не пробьёшься, только отбойным молотком, ну а в дождливое – увязнешь по колено. На сапоги налипнет – ноги не поднимешь. Хоть из сапог вылазь, из глины их не вырвешь. Ладно, успел картошку до ненастья выкопать. Засухо – всё же. А то – как муха бы на тесте – побарахтался.
И вверху был чернозём когда-то. Не меньше метра. Весь его вниз – место неровное, угор – спустили трактористы. Трезвым-то редко кто пахал. Не потому что неумельцы. Мастера. К нам после всех уже, напотчевавшись, заезжали. Тут, на отшибе-то деревни. Пока доберутся. Пахарь – везде же угощают. Не угости – другой раз не поедет. Нынче не так, теперь – за деньги. И не садятся пьяными за трактор. Трактор-то свой, а не колхозный – жалко.
Натаскаю. Не этой осенью. Весной. Сойдёт снег – тогда. До пахоты. А и по снегу – на санках-то. Вози тихонько да вози. Лучше – по насту. Рано планировать, конечно. Так говорится: поживём-увидим, а не увидим, так помрём. Это-то так уж – отсебятина.
Уморился. Стою на пригоне. На вилы оперся. Как Арынин нынче утром. Обо всём об этом думаю. Много кладу им сена на подстилку – об этом тоже. Бычку особенно – изнежил. Вон – не навоз – сплошное сено. Отец бы выругал меня за это – разорительно, не икономно, дескать. И мать бы – та не похвалила. Сам себе теперь хозяин – что хочу, то и ворочу. Шучу, конечно. Пусть поворчали бы, но были б. И без отца, без матери люди живут – неполноценно. Природа так распорядилась – умирают. А молодые-то когда – неправильно… А дети… Лучше не думать. А то до злости добираешься. Не надо. Плохой она советник – злость-то, и сам знаю. Но и без неё совсем – никак, не получается. Живу вот.
Смотрю кругом. Всё примелькалось. С каждым метром, сантиметром, что-то связано – за мою жизнь-то.
Ельник. Поляны. И угоры. Вижу их с детства, сколько себя помню.
Небо сплошь всё ещё серое, без единого просвета. Тучи несутся, одурелые. Когда закончатся? Как никогда. На то похоже.
Лицо и шею освежает воздух. Прохладный, влажный. Разгорячился от работы, уж и вовсе. Как после бани. Куртку снимал, пока не надеваю.
Дело сделал, а радости нет. Не как прежде. То бы пришёл, сказал: Тася, готово. Быстро, сказала бы, управился. Глаза – так только у неё – лучатся весело… Хвалить любила. Тогда и горы бы свернул. Теперь – как обязанность. Без души. Не убирать, скотина тут утонет. Поэтому.
Не моросит.
Ветер. Сиверок. С низовки. Нетерпеливый. Не настойчивый – дохнёт и отступит. И при таком, если не стихнет или не развернётся на девяносто или сто восемьдесят градусов, ночью подстынет. Ну а уж выяснит, тогда и вовсе.
Капусту надо будет всё же вырубить. А то останусь в зиму без капусты. Только скоту скормить её – закоченеет-то. В засол, мороженая, не годится. Сегодня-завтра. Не сегодня. Рано ещё – ещё сентябрь. Сентябирь, говорит Арынин, октябирь, ноябирь – осинь. И не он один, многие так тут произносят. Лёгкий-то заморозок нипочём ей. Как сибирячке. А вдруг да тюкнет? Такой – сразу под десять. Будет без квашеной-то скучно. Привык, что стоит всегда, каждый год, с осени в сенях, в кадке, закисает – нравится. Проходишь мимо, пальцами зацепишь и попробуешь. После, в мороз, уж только сечкой. Сечка там, в кадке, и находится. Извечно.
Перед глазами пробегает разное. Вспыхивает. Что-то задержится. И это:
Много лет назад, такой же вот порой, но в хорошую погоду. Старым бабьим летом. В Аспожинки, как называла ещё это время мать. Надумал отец перебрать одну из стаек, сгнившие брёвна поменять на новые. Чтобы зимой корове в ней не околеть. Даже и брёвна заготовил.
Узнал об этом намерении отца и вызвался ему в помощники свояк его, муж маминой родной сестры, тёти Клавы, Егор Гаврилович Нашивошников.
И их обоих нет уже давно на свете, дяди и тёти. А вспоминается – будто вчера происходило. Словно на днях только расстался с ними. А стосковался так, будто не видел век. На самом деле. Вспомнил сейчас, и сердце защемило.
Пришёл дядя Гоша с фронта без ног. И, как он выражался, сушшэсвовал в последуюшшэй мирной жисти почти неслазно на тележке. Спал только не на ней – на ней подушки не было для этого, мол. Рядом. Как бы когда ни перебрал. В обнимку. Чтобы не укатили сорванцы. Транспорт всегда, дескать, под боком. Только проснулся, мол, и трогай. Куда сам, вредный с похмелья, пожелаешь или душа, в капризах, повелит. Одно сплошэнное удобство. Ни от кого, мол, не зависишь. Как погода. Сам по себе, мол, своеволен.
Приехала с ним с Усть-Кеми, где, поселившись сразу после войны, они жили, и тётя Клава – с сестрицей, дескать, повидаться. Живём, мол, хоть и рядом, а собираемся вместе редко. Так, дескать, повод.
Первый день встречу отмечали. Не засиделись. Спать легли, помню, в полночь. Свет как потух в деревне, так и улеглись. Постоянного тогда ещё не было. Работал дизель. И свет давали только вечером и утром. Если ещё и Винокуров, дизелист, не закуражится. А то бывало и такое. Обидится на жену свою, на тётю Машу, и света всю Ялань лишит. Никак с ним было не управиться – чуваш. Одна у него была, и по сей день остаётся, присказка: не горе-не беда – и хоть тут тресни.
Ознакомительная версия. Доступно 15 страниц из 74