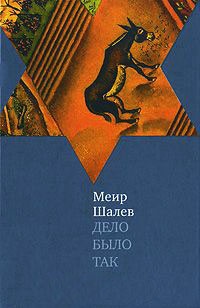Если б не было гестапо,Что бы ели – я и папа?
Гофман-старший умрет в 1995-м от инсульта. О том, что дело идет к апоплексическому удару, можно было догадаться уже в тот памятный вечер, глядя на свекольное после несколько рюмок лицо писателя. А вот ирониста Витю застрелят в собственной квартире в 2015-м, кажется, за карточный долг. Но вернемся в 30 сентября 1983-го. Среди многочисленных гофмановских гостей я заметил литфондовскую невесту Соню Шохет, она липла к воениздатовскому редактору Бельченко, подстриженному под «полубокс».
У входа гуляла золотая литературная молодежь, в основном «писдочки» и «сыписы», человек шесть. Витя Урофеев страстно шептал что-то в ухо импортному субъекту, похоже, французу: вокруг куриной шеи иностранца был повязан пестрый шелковый платок. Востроносая блондинка Ника Лаева читала пьяной компании свои стихи. Она завывала, как Белла Ахмадулина, беспрерывно курила, как Марина Цветаева, и кутала плечи в черную вязаную шаль, как Анна Ахматова. Недавно Лаева вышла-таки замуж. Ее свежий супруг, молодой злобный критик Сеня Вигель, похожий на отощавшего Мефистофеля, ехидно и внимательно оглядывал жующую публику, ища, по всей видимости, жертву для очередной разгромной статьи. Если бы мне кто-то сказал в тот миг, что через десять лет он станет батюшкой, а Ника – попадьей, я бы от хохота свалился со стула. Чудны Твои дела, Господи!
Мимо пробежал мрачно устремленный Золотуев, но, заметив меня, вернулся и подсел.
– Это коньяк? – спросил он, морщась.
– Да.
– С утра жмет и давит.
Влад вылил полграфина в фужер, поглотил с утробным клекотом, отдышался и угрюмо спросил:
– Есть информация, что Ковригин вас всех на хер послал. Это так?
– Отчасти.
– За ним кто-то стоит. Говорят, ты был у Клинского?
– Вызывали.
– Про меня он не спрашивал?
– Нет.
– Странно… Историю с пальто не вспоминал?
– Мне кажется, он давно забыл.
– Эти люди ничего не забывают. Говорят, ты в Италию летишь?
– Да вот вроде бы решилось…
– Дешево покупают! – Влад плеснул остатки коньяка в фужер, залпом выпил, бросил в пасть пучок зелени из «клумбы» и гордо удалился, по-коровьи жуя свисающую изо рта петрушку. Я вздохнул, заказал третий графин и снова пошел к Этерии Максовне.
– Можно позвонить?
– Жорж, нельзя так навязываться женщине. Если мужчина звонил мне больше трех раз в день, я его бросала. Он тряпка!
– В последний раз!
– Хорошо. Но ваша дама не придет.
– Почему?
– Насколько она опаздывает?
– На час.
– Голубчик, на час женщину может задержать только катастрофа.
– Какая? – тихо спросил я, снова представив себе разбросанные на асфальте белые девичьи ноги и далеко отлетевшие в стороны туфли.
– Ну, не знаю, неудачно выкрасила волосы. Прыщ не запудривается…
– А еще? – Я набирал номер театра имени М.
– Муж вернулся из командировки и срочно захотел ласки…
– Театр, – ответил тоскующий административный баритон.
– Пригласите, пожалуйста, к телефону Виолетту Гаврилову.
– Кто спрашивает?
– Из райкома комсомола.
– Из райкома? Ее нет. Звоните домой.
– А когда будет?
– Не знаю… – замешкался голос. – Думаю, теперь лучше звонить ей домой.
Я в отчаянии положил трубку.
– Жорж, никогда не связывайтесь с актрисами. Они безумны. Говорю вам как специалистка.
Этерия Максовна умерла через два года, незадолго до кончины снова выйдя замуж и разведясь. А я вернулся к столу. Алик как раз принес третий графин коньяку.
– Не идет?
– Нет. – Я покачал головой и выпил.
– А что ты хотел от женщины? – с оттенком сочувствия вздохнул он. – Тупиковая ветвь. Поешь хотя бы! Пропадет продукт.
Я намазал черный хлеб красной икрой, а белый – черной, сверху прилепил ломтики севрюги, потом сложил оба куска вместе и съел. Жуя, я чувствовал себя подлецом: бутерброды надо было отнести домой и скормить растущему организму ребенка. Но тогда Нина сразу поймет, что я вернулся к очагу не с обсуждения книги Преловского, а из ресторана, где обхаживал женщину, ибо нормальные мужики водку икрой не закусывают.
Тем временем из парткома вышла Арина, заперла дверь, подхватила большую хозяйственную сумку и побрела через ресторан в холл сдавать ключ дежурному администратору. Когда она поравнялась с моим столиком, я ее окликнул:
– Эй, на барже, что грустим?
– Да ну… Надоело…
– Выпьешь?
– Ага, шампанского, – кивнула она, опускаясь на стул. – Чуть-чуть. Ты-то как?
– Ничего.
– Владимир Иванович пол-литра выхлебал, а ему нельзя. У него сердце маленькое.
– У меня большое!
– Оно и видно.
Я взял бутылку, выглядевшую посредине стола как новогодняя елка, ободрал с горлышка фольгу, раскрутил витую петельку проволочного намордника, расшатал пластмассовую затычку. Раздался хлопок, белая пробка, будто ракета, выстрелила в потолок, и я едва успел направить пенную струю в камин. Разгневанный Алик подскочил и вырвал бутылку из моих рук:
– Не умеешь – не берись!
– Холодное шампанское не стреляет, – парировал я.
– У дураков даже клизма стреляет. Пардон, мадам! – Официант галантно изогнулся и медленно, пережидая пену, налил шипучку в бокал.
Запахло дрожжами.
– Спасибо, Алик!
– Угощайтесь, мадам! Все для вас! – Он глянул на меня, как парфюмер на ассенизатора, и ушел, качая бедрами.
Мы с Ариной выпили.
– Закуси!
Она поклевала.
– Чего опять тоскуешь?
– Понимаешь, Ник канючит, чтобы я снова Ленку Сурганову позвала. Понравилось гаду втроем! Ему теперь со мной одной это не интересно. Какая же я идиотка! Сама себе мужа испортила. Он же до меня был как чукча. Одну позицию знал. Нет… две. Дура я набитая! – Она залпом выпила шампанское, икнула и побрела сдавать ключи.
Но в одиночестве я оставался недолго: ко мне, перепорхнув от Гофманов, подсела Соня Шохет, крашеная блондинка с лицом умной лошади. Она мечтала выйти замуж за любого писателя и выбрала для этого способ, который на колхозном рынке называется «попробуй и купи». Все пробовали, но никто не покупал.
– Гога, ты писал заявление на Переделкино? – спросила она, призывно глядя на початое шампанское.