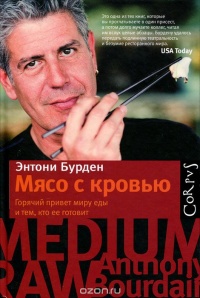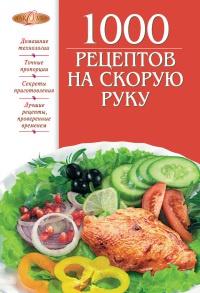—Ни о ч-чем не беспокойтесь, — сказал Эдди, сделав картинный жест в сторону вооруженных людей, расставленных у подножий окрестных холмов. — П-пейте! Все, что хотите. Текилу, мескаль, мату. Как вам? Нравится? Все хорошо? Главное, не волнуйтесь. Захотите поспать — нет проблем. Спите где хотите. Хоть на земле вместе с цыплятами. Хоть где. Вы в безопасности. Полиция охраняет. Никто вас не тронет.
— Боже мой, Эдди! — воскликнул я. — Тебе есть чем гордиться… Это ведь ты все устроил!
Суп из козьих голов получился потрясающий — одно из самых вкусных блюд, какие я когда-либо ел. Козлятина была на удивление нежная, просто восхитительная. Фаршированные желудки стали настоящим откровением для меня — чудесная острая кровяная колбаса. Я постарался попробовать всего, в том числе салата из кактусов и всяких соусов — накладывал себе еду на еще теплые тортильи, которые можно было брать из стоявших повсюду корзин, покрытых салфетками. Я поел риса, еще салатов, тамалес, потрясающей сырной кесадильи[67]с цуккини и мягким сыром.
А есть ли на свете музыка сентиментальнее, романтичнее, трогательнее, чем та, которую играют мексиканские марьячи! Ну ладно уж, пожалуй, самба может сравниться с ней. Но в тот вечер — когда солнце садилось за холмы, а вокруг раздавался смех и звучал мексиканский диалект испанского, — мне показалось, что я никогда не слышал ничего красивее этой музыки. Вакеро показывал разные штуки с лассо. Другой пел, сидя верхом на лошади, а лошадь под ним приплясывала, пятилась назад, ложилась, опускалась на колени. Уже после захода солнца, при свете расставленных всюду прожекторов и развешенных гирлянд рождественских лампочек, вакеро спешился, с хмурой торжественностью поднес ко рту микрофон, и тоном, каким обычно говорят спортивные комментаторы, с очень раскатистыми «эр-р», указывая на меня, провозгласил: «А тепер-рь, сеньоры… север-роамериканский шеф-повар-р, гость из Нью-Йор-рка, знаменитый Энтони Бур-р-рден!»
Толпа взревела. Музыка прекратилась, марьячи выжидательно смотрели на меня. Я знал, чего от меня ждут, и, пошатываясь, под гиканье и улюлюканье Эдди, нескольких операторов и еще некоторых выскочек из публики, направился к лошади, в центр освещенного круга. Я поставил ногу в стремя и легко взлетел в седло. Несколько недель в летнем лагере и два урока на Клермонских конюшнях пришлись мне удивительно кстати. Я был пьян, держался нетвердо, но подо мной была поистине чудесная лошадь. Натренированная на танцы, она чутко отзывалась на каждое мое прикосновение, она пускалась в легкий галоп, повинуясь едва заметному движению моей ступни. Я вполне уверенно объехал вокруг двора, снял шляпу перед собравшимися, остановился и щеголевато спрыгнул наземь, чувствуя себя ужасно глупо, но в то же время испытывая истинный восторг.
Дружок Эдди, которого он мне представил как главу местной мафии, настоял, чтобы я и несколько человек из съемочной группы сыграли с ним в игру под названием «кукарача». Это, дескать, будет матч между командами США и Мексики. Итак, мне и двум операторам, а также главному мафиозо и двум его приспешникам подносят смесь ликера «Калуа» и текилы в пропорции пятьдесят на пятьдесят, подожженную и еще горящую. Нам объяснили, что вся фишка в том, чтобы опустить в напиток соломинку и выпить пылающий эликсир, пока он не погас. И так — до тех пор, пока одна из команд не попросит пощады или ее члены не упадут без чувств.
Команда США показала себя хорошо. Мы вышли из этого испытания с честью — каждый выдержал по пять заходов, и не подпалил собственных волос, и не задохнулся. Но мексиканцы, безусловно, были лучше. В конце концов в знак дружбы и солидарности между народами решили сделать шестой раунд последним для обеих команд. Так нам всем удалось спасти лицо — к тому времени мы уже лыка не вязали.
Мэтью покинул ранчо вместе со всеми, на своих ногах, но стоило нам сесть в машину и проехать немного, как он взмолился, чтобы остановили. В последние несколько месяцев на разных континентах Мэтт проявлял поразительную бесчувственность к моим желудочным расстройствам. Он, не колеблясь, заставлял меня глотать любую гадость и давиться ею, если только ему казалось, что это будет интересно зрителю. Он снимал меня лежащего без сил в постели, ползающего по полу, умоляющего о помощи. Так что, когда мы остановили машину и бедный Мэтт при свете прожекторов шлепнулся наземь, как мертвое тело, а очнувшись, на брюхе пополз к ближайшей канаве, я взял в руки камеру. Настал мой черед. Пришел час расплаты. Вот он, мой золотой кадр. Мне нужно было всего лишь навести камеру, нажать кнопку — и все в нью-йоркском офисе — редакторы, продюсеры, все, все, все смогут увидеть (и при желании — не один раз), какое возмездие постигло наконец моего обидчика и мучителя. Освещение было идеальное. Большего драматизма и представить себе невозможно: пустынная проселочная дорога, выхваченный из полной тьмы прожектором круг, темное тростниковое поле на заднем плане. Я поднял камеру, навел…
Я не смог. Я просто не смог этого сделать.
В конце концов мы затащили этого идиота обратно в машину, довезли до места, затащили в комнату. Мы сняли с него ботинки. Камеру я положил у его изголовья.
Когда проснется, это будет первое, что он начнет искать.
Он же, черт возьми, профессионал.
Глава 12 Может ли чарли[68]заниматься серфингом?Я просыпаюсь в своей комнате в отеле «Бао Дай Вилла», летней резиденции последнего вьетнамского императора. Слышно, как пробуждается город, из ближайшей школы доносится патриотическая музыка и галдеж детей. Капли дождя бьют по листьям, петухи кричат. Кто-то внизу колет дрова. Шаркает метла по мостовой. А где-то поблизости, на воде, в утреннем тумане вхолостую работает мотор.
Вся моя одежда — влажная и засижена москитами. Не вылезу из-под москитной сетки, пока не вспомню, куда дел средство от насекомых. В дверь стучат. Это Лидия, спрашивает, нет ли у меня ломотила. Вчера я ездил в Нячанг и там, под пальмой, съел целого красного морского карася. А Крис ел в отеле крабовый суп. Он очень боится отравиться здешней едой. Разумеется, у меня есть ломотил. Ломотил — лучший друг путешествующего повара. Я даю Лидии пару таблеток для нее самой и еще несколько — для Криса. Представляю, как он себя чувствует. Похоже, сегодняшнее утро я проведу в одиночестве.
Найдя репеллент, распыляю его на свою одежду, выбираю самые сухие вещи и одеваюсь. Неподалеку есть пункт проката мотороллеров и мотоциклов, беру который покруче и, оседлав его, еду в город завтракать. Вообще-то, иностранцам не разрешается водить ничего, кроме низкоскоростной малолитражки, но парень в пункте проката не сказал мне об этом ни слова, так что через несколько минут я вливаюсь в густой утренний поток велосипедистов, едущих вдоль пляжа Нячанга. Чудесное ощущение. Я со всех сторон окружен мужчинами и женщинами в конических шляпах, вдоль дороги растут пальмы, справа от меня — длинная полоса белого песка и прибоя, пляж почти пустой. Вьетнамцы не большие любители лежать на пляже. Бледная кожа здесь, как и в Камбодже, и вообще на востоке, — свидетельство высокого социального статуса и благородного происхождения. Куча денег тратится на осветлители кожи, скрабы, разные мошеннические и часто вредные для здоровья процедуры, призванные сделать человека белее, чем он есть. Женщины в Сайгоне закутываются с ног до головы, чтобы защититься от солнечных лучей. Так что чарли, похоже, серфингом не занимается. По крайней мере в Нячанге.