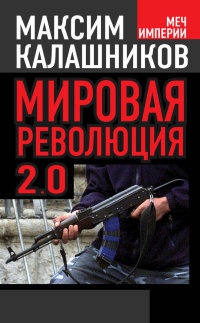Ознакомительная версия. Доступно 18 страниц из 87
Эта разверзающаяся пропасть результат возрастания сложности и экономической эффективности социально-исторического развития. Существование языка «т(ч)еловека» в виде звуковой и жестовой речи, а также нарисованных знаков является атрибутом традиционных обществ. Длилось оно, если всю человеческую историю принять за сутки, 23 часа (условный образ, не статистика). Многие короли Средневековой Европы едва умели поставить подпись под указом, а около половины человечества и в настоящее время, в свой последний час, не умеет писать. Кульбиты, которые проделывал Ж. Деррида, чтобы обосновать первичность письма перед речью и рукопись-мом являются ярким примером, что факты для теоретика, при его сильном желании, особенно с благословения соответствующей (постмодернистской) идеологии, не играют никакой роли. (Подлинный смысл концепции «письма до письма» мы покажем далее, это одна из главных, фундаментальных основ лингвистической контрреволюции; или «контрлингвистической революции»). Однако развитие процесс нелинейный, состоит из многих накладывающихся друг на друга, перев(л)ивающихся потоков. Бесписьменное время продолжается до сих пор, и в тоже время оно осталось в истории – преодолено. Verba volant, scripta manent (Слова улетают, написанное остается (лат.). Решающим фактором здесь стало появление книгопечатания как индустриальной формы письма.
3. Язык без человека: печать-текст
Печатный станок изобретен в ХУ веке, но в сущностном смысле печатная книга феномен Нового времени. Как фабричное производство и массовый продукт вместо натурального хозяйства и кустарного труда. В отличие от рукописи, которая согрета дыханием и пахнет создателем, в печатной книге он отражается условно, мысленно, «указывается». Ничего чувственного их не соединяет. Книга не рождается и размножается, а множится и распространяется. «Тиражируется». Если руко/письмо – это язык, потерявший фоноцентричность, переставший быть голосом, то печать – это письмо, переставшее быть эмпириоцентричным, потерявшее связь с телесностью автора. Благодаря печати возникает особый, не существовавший ранее в мире способ материализации духа, неорганическая форма его бытия. Не в вещах, как было прежде, а на самостоятельной основе. Возникает новый физический носитель духа, притом, что автор, его живой прототип, в нем умирает. Но все-таки «как бы умирает». Не вообще, а как конкретный эмпирический индивид, и пока «клинически». Потому что в принципе, в какой-то момент он может ожить, озвучить печатное слово, удостоверить его автографом: «сам писал». Для полной, смысловой смерти и «бесчеловеческого» функционирования языка надо (было) дойти до расширенного понимания книги, которое, в дальнейшем привело ее (обычное коварство диалектического развития) к самоотрицанию.
Естественно полагать, что идея несводимости языка к контактному общению индивидов, к «автору», возникала в результате расширения связей между народами и росту знаний. В философии впервые она была высказана Декартом, особенно отчетливо Лейбницем. Потому что язык, превратившийся в письмо, потом в распространяющуюся по всему миру печать, преодолевает пространство и время, приобретая всепроникающий характер. Глобализуется. Это внешне, экстенсивно. Но и внутренне, в сознании людей он начинает представать не только как способ жизни, орудие мышления и общения, а как некое состояние реальности или, по крайней мере, свойство бытия. Сущностное. Первичен разным образом воплощающий мысль язык, остальное – видимость. Данный процесс, нарастая, развертывался в течение всего Нового времени, его пик влияния приходится на его конец и наступление «Новейшего», назвавшего потом себя эпохой постмодерна. Это состояние, когда в теоретической трактовке мира язык стал всем, а гора книг достигла высоты Эвереста.
Достигла и… вдруг, будто в результате землетрясения, по историческим меркам внезапно (так и сейчас, в нашем тексте), она начинает рассыпаться, язык, «наше все» – терять значение. Особенно в современной научной практике. Эта потеря по-настоящему не оценена, хотя библиотеки на глазах пустеют, место письменных столов и книжных полок в квартирах занимает разного рода аппаратура. Хотя бесписьменных людей на Земле миллиарды, а пишут и читают миллионы, книга, рукопись/мо, а вслед за ними и дописьменный вербальный язык, в качестве способа общения утрачивают перспективу. До(бес)письменное время, руко-пись/мо и книга, существуя до сих пор, в то же время остаются в истории – преодолены. Перестали быть «прогрессивными», уходят в традицию. Вместо них, на их основе, оторвавшись от человека как родового существа, теряя связь с ним, возникает некая самоценная «система знаков». Как реальность. Реальность текста. Перерождаясь, язык становится текстом. Языковый, структурно-лингвистический поворот облекается в форму текстуального. С одной стороны, язык продолжается, а с другой, он(а) его «снимает».
Текст тоже язык, но как сухое молоко или винный порошок в сравнении с вином и молоком, он нечто особое, о-без-жизненное, со всеми вытекающими отсюда потерями и преимуществами для распространения. Возгонка языка в текст, омертвляя его, одновременно делает универсальным. Если эмпирически мыслимый язык, пусть всеобщий, невольно заставляет нас вс-помнить о человеке, то текст избавлен от последнего на всех уровнях. У текста как бы один автор и потому нет конкретных авторов. Он тоже книга, но разросшаяся до Библи(и)отеки, описывающей весь мир. Вместо мира, в котором больше нет необходимости. Текст не «вещь» и не отражение чего-либо. Он бессубстратен, включая наиболее абстрактную форму субстратности – пространство. Это реальность как чистая среда чистых отношений. Вселенная текста просторна и однородна. Кругом знаки, знаки, знаки. Вещи? Это «неудачное наименование знака». Человек, личность? Это «самоинтепретирующийся текст». «There is nothing outside of the text» (вне текста ничего нет) – вот альфа и омега текстологии.
Разумеется, представления о тексте менялись. Вначале он был действительно приравненная к реальности «абстрактная книга», многомерный язык-структура. Некий гуманитарный аналог будущей информационной картины мира – «гуманитарный информационизм». Подобно информации, которая до изобретения компьютеров и интернета рассматривалась как «информация о» (чём-то), текст первоначально тоже представал как высшее выражение структурно-лингвистического подхода. Без времени и динамики. И пока он был в качестве «большой книги», «всемирной библиотеки», устойчиво организованной системы знаков, хотя бы и без означающего, говорить о «текстуалистском повороте» как принципиально новом этапе в развитии человеческой ментальности вряд ли оправдано. Это событие надо связывать с возникновением постструктурализма, в контексте которого представления о тексте стали напоминать нечто иное, в сравнении не только со звуко-графическим, но и печатным способом существования языка. Появляются понятия «мягкого текста», гипертекста, интертекста. Текстология становится переходной формой опять к «письму», хотя не рукописному и не индустриальному, а другому. Постиндустриальному. Какому, если определеннее? Информационному. Какому, если конкретизировать?
(Приближаясь к ответу на этот вопрос, постструктуралистскую текстологию лучше (будем) называть текстуализмом).
Возникновение собственно текстуализма, его отличие от предшествующего метафизического философствования, а потом и структурализма отчетливо зафиксировал Р. Рорти в удачно озаглавленном очерке «Идеализм девятнадцатого и текстуализм двадцатого веков». «В прошлом столетии были философы, доказывающие, что существуют лишь идеи. В нашем столетии есть авторы, пишущие так, как если бы существовали лишь тексты. В число этих авторов, которых я буду называть текстуалистами, входят, например, представители так называемой «Иельской школы», группирующиеся вокруг Гарольда Блума, Джефри Гартмана, Джона Миллера и Поля де Мана, мыслители французского «постструктурализма» такие как Жак Деррида и Мишель Фуко, историки, подобные Полю Рабинову… Центром тяжести интеллектуального течения, к которому относятся эти авторы, является не философия, а литературный критицизм»[113].
Ознакомительная версия. Доступно 18 страниц из 87