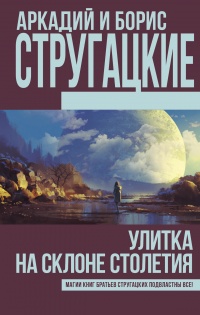Ознакомительная версия. Доступно 16 страниц из 80
Да, цветов много. Горы цветов; реки цветов. В венках и букетах, наваленных на плоские мраморные белые ящики могил, можно заблудиться, умереть. Задохнуться ароматами. Погибнуть в неге и ласке лепестков, венчиков, сумасшедше переплетенных листьев и стеблей.
Ром трогал кончиками пальцев головки ледяных хризантем, чайных роз. Цветок живет еще меньше, чем человек. Совсем короткая жизнь! Тычинка – стрелка, лепесток – секунда. Фелисидад беззастенчиво обрывала лепестки, жевала, однажды сорвала целый венчик – это была безумно, на все кладбище, остро, дико и пьяняще пахнущая магнолия, торчащая сверху громадного, как спящий слоненок, букета на чьей-то, должно быть, знаменитой могиле, ибо кроме мраморной плиты и стелы, как у всех, на могиле стоял мраморный памятник – белый ангел, похожий на маленькую кудрявую девочку, – и нюхала, нюхала. Ее нос выпачкался в желтой, золотой пыльце.
«Черная бабочка, золотая пыльца. Еще летит! Не поймаешь. Моя!»
Ром тоже танцевал, да, прямо здесь, среди могил, они с Фелисидад наскакивали друг на друга, как два петуха, то сбегались, то разбегались, и это называлось сальса. Потом к Фелисидад подскочил наглый парень. Он обнял Фелисидад. Прижимал к себе. Вертел. Они вспрыгнули на могильный мрамор и там танцевали. Ром смотрел на них снизу вверх. Мир двоился, перевертывался, делал замысловатые кульбиты. Мир, костлявый скелетик, и люди-скелеты танцуют на твоих желтых и черных костях; зря! Зачем? Бесполезен танец. Все в мире есть нетленная кость. Все скелеты. Все клацают зубами. Все только делают вид, что живые.
На самом деле все мертвецы.
Все.
Зачем же в груди палит решетку ребер красный факел?!
«Я ревную ее. Она моя. Отдай!»
Он замахнулся и ударил. Получил сдачи. Сцепились. Дрались. Не помнил себя. Память выжгло внезапно и кроваво, будто глаз – сунутым в лицо факелом; и память вытекла, как расплавленная склера, и вместо зренья плыли, заплетались в черную косу разводы крови.
Боль накрыла крышкой пустую кастрюлю тела, и вся жизнь выкипела на мощном сумасшедшем огне.
Не помнил, как упал.
Не слышал, как острый высокий крик Фелисидад разрезал черный бархат влажного, пахнущего жареным луком и мясом, помадой и духами, розами и вином, землей и горькой свежесодранной корой платана, пьяного черного, синего, лилового воздуха:
– Помогите! Мой парень! Скорее! Он умирает!
Исчез мир.
Его спрятали в спичечную коробку – так, как Ром когда-то прятал от бабушки секреты: кнопки, гвозди, перламутровые пуговицы старых бабушкиных платьев с ароматом нафталина и лаванды.
Бедный мир. Маленький мир.
Вот он был, и его больше нет.
Как все просто.
И нет мыслей о нем, и нет воздуха его, запаха его, радости его.
Ром лежал в черной пустоте беззвучно и бездвижно, его колени слиплись и, согнутые, завалились набок, а торс был повернут вверх, он лежал лицом вверх, к бешено пляшущим вокруг огням и звездному небу.
Фелисидад, на коленях, с перепутанной черной сетью волос, наклонилась над ним.
Он умирает – она понимала. Зачем здесь! Зачем среди могил! Она так не хотела!
Ее руки трогали его и убеждались: нет движения, нет дыханья. Положила голову ему на грудь, слушала. Она не слышала его сердца. Слышала только свое.
Ее сердце гулко грохотало, раскаты грома плыли над Мехико.
Волосы черными тучами плыли, неслись мимо лица, заслоняли яркую осеннюю звезду, висящую в гуще черных веток магнолии огненной ягодой.
– Ромито, – она поймала губами ускользающий воздух, – Ромито… встань…
Ускользающий ветер. Улетающий дух.
Нет! Нельзя! Все только началось! Нельзя рубить молодой бамбук! Бог Кетцалькоатль, сруби старый платан!
Ускользала жизнь и любовь, посланная ей так счастливо в ее пятнадцать лет, улетала, прощалась, а его ребенка так и не выносила она, так и не родила.
«Проклятый Хавьер. Проклятое его пророчество. Значит, он не дурак! Он тоже обладает силой! Но я сильнее!»
Собралась. Подобралась. Кулаки сжала.
«Я пантера, и я смелый молодой зверь. Я ветер, и я лечу с океана. Я отдам свою свежую молодую кровь тому, кого люблю больше всех на свете. Ромито! Чувствуй меня!»
Вжался живот. Выгнулся хребет. В пальцах забилась кровь – горячая, разрывающая сосуды. Фелисидад положила одну руку на лицо Рома, другую – ему на сердце. Дышала: вдох-выдох, вдох-выдох.
«Дыши вместе со мной. Вместе со мной!»
Вокруг них толпились люди. Низкорослый мужчина с венком из магнолий на мощной, чернокурчавой бараньей голове крикнул зычно:
– Эй! Тут парню худо! Вызывайте врачей!
Ускользал свет. Улетал. Летела мимо густая, пряная тьма. Восторг таял и пропадал. Умирали мгновенья, не достигнув цели. Фелисидад держала сердце Рома в руках и умоляла его, и целовала его, и шептала: ну, бейся же, бейся, родное, любимое, ну, я так люблю тебя, так…
– Вызвали!
– Едут!
Кладбище благоухало всеми цветами, горело и переливалось, и молниями вспыхивало, и рыдало, и смеялось, и грызло марципановые калаки, и поминало тьму прошлого, и мечтало о солнце, что взойдет завтра, – а может, не взойдет никогда.
Крепче прижать ладонь к его сердцу. Крепче. Пусть рука вомнется в кожу, в плоть. Сердце – не комок рвущегося наружу мяса. Нет. Это сгусток слез. Пламя веры. Я верю. Я верю! Живи! Живи!
Наклониться. Поцеловать. Дыхание отдать дыханию.
Волосы зашевелились змеями. Фелисидад подняла обе руки над головой. Те, кто стоял рядом и видел ее лицо – отшатнулись.
Кругами ходили руки, шли по неведомым орбитам. Из-под рук ускользала тьма. От Фелисидад стало распространяться сияние, будто бы вокруг нее стояли маленькие девочки, и у каждой в руке горела свечка, и они подсвечивали фигуру Фелисидад снизу. Оранжевые во мраке прямоугольники ладоней падали гадальными картами. Ускользало, уплывало время, и его становилось все меньше для того, чтобы вернуть, оживить.
– Дыши, – сквозь зубы вышептала Фелисидад, – черная пантера приказывает тебе…
«Нет! Не приказать. Любить!»
Она упала на лежащего на земле, словно бы спящего Рома. Навалилась всей тяжестью. Тяжести не было. У нее украли вес, плоть. Теперь она состояла из воздуха, из легкого ветра, из ускользающего колыханья плачущей, потерянной навек красоты.
«Так я буду плакать старухой. На его могиле. Я всегда буду приходить к ней. Ложиться на землю, на мраморную плиту, и плакать, и никогда – смеяться и танцевать. Господь Христос! Дева Мария! Господь Улитка! Змей Кетцалькоатль! Оживите мне милого моего!»
Лечь сверху, вот так. Никого и ничего не стесняться. Расстегнуть ему рубаху. Целовать его закинутую шею, его щеки, его кадык, его ключицы. Губами найти его сердце. Вот оно. Здесь. Целовать его прямо в сердце. Пусть губы прожгут кожу и кости.
Ознакомительная версия. Доступно 16 страниц из 80