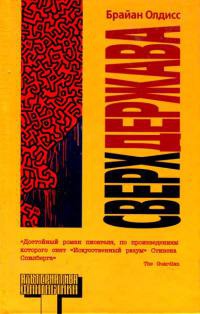— Пей. — Лиза поставила перед ним стакан. Стакан был странным — сбоку он имел длинный трубчатый носик, вытянутый из стекла, наподобие китайских чайников для вина. И жидкость в стакане тоже была странной. Она опалесцировала, переливалась розовыми и зелеными неоновыми оттенками. Краеву даже показалось, что там, внутри, бешено пляшут маленькие живые фигурки. — Пей. Только осторожно. Это пьют так… — Лиза приложилась губами к трубочке-носику и потянула жидкость из бокала.
— Что это?
— Мескатоник.
— Почему он так странно выглядит?
— А как мескатоник может еще выглядеть? — Лиза пожала плечами. — Ты хочешь летать, метаморф?
— Не знаю…
— Ты! — Лиза вскочила, нависла над Краевым, как разъяренная фурия. — Я хочу летать! Я всегда летаю здесь, и не тебе это менять, метаморф! Ты понял? Я пристегнута к тебе, метаморф! — Она потрясла своим наручником. — И поэтому ты должен идти со мной! Должен! А еще ты должен выпить эту бурду! Вот этот напиток богов! — Она ткнула пальцем в стакан. — Потому что если я взлечу, а ты нет, то твои кости переломаются…
Краев смотрел на девушку снизу вверх. Что-то случилось с ней. Она не была пьяна, нет. Это было что-то более сильное, более глубинное, чем опьянение. Кожа ее побледнела, стала почти прозрачной, глаза тонули в фиолетовых кругах-мишенях. Шарики на концах косички вспыхивали волнами — в такт исходящей от девушки, почти ощущаемой Краевым боли.
— Хорошо. — Краев поднялся, медленно взял стакан. — Я выпью. Ты научишь меня летать, Лисенок? Научишь?
— Да, — шепнула она. Она сделала шаг к нему, протянула руки, провела пальцами по щеке, по бритому темени. По его губам. Пальцы ее дрожали. — Это хорошо — летать. Ты должен суметь. Если ты чумник — ты сумеешь. Я не знаю, кто ты такой. Но если ты такой же, как мы, — ты сумеешь. Я научу тебя. И ты вспомнишь… Вспомнишь себя…
Краев взял в рот стеклянную трубочку, сделал первый осторожный глоток. Ничего особенного. Еще глоток. Боже мой, как вкусно! Жидкость не была водянистой. Она была густой. Она была живой. Она всасывалась там, внутри Краева. И она знала, что делать. Знала сама по себе. Занимала положенные ей маленькие сосуды в теле Краева и душе его, и он начинал понимать, что в теле и душе его всегда были пустые места. Пустые места, не заполненные ничем. Специально предназначенные для того, чтобы заполниться напитком богов и сделать Краева самим собой. Навсегда.
— Метаморф… — Лиза обхватила рукой Краева за шею и спрятала лицо у него на груди. — Бедный мой метаморф… Пей. Я не хочу, чтобы у тебя сломались косточки… Бедный, милый мой метаморф… Ты будешь летать со мной?
— Да, — сказал Краев.
Он разжал пальцы, стакан упал на пол и разлетелся на розовые и зеленые осколки.
* * *
— Пойдем… — Лиза тащила его за собой между столами. — Здорово, правда? Ты сам увидишь, как здорово!
Краев видел. Видел, что на сцене появилась уже вся группа Фрэнка. Целая куча «мамаш»[6]- бас-гитарист, и ударник, и клавишник, и духовая секция, пытающаяся справиться со своими разнообразными дудками, и прочие, кому полагалось. Непонятно, как все они умещались на сцене со всеми инструментами — саксофонами, тамбуринами, флейтами, кларнетами, маримбами, ксилофоном, челестой, колокольчиками, деревянными дощечками, барабанищами, барабанами и барабанчиками и прочими неизвестными науке предметами для производства музыки. «Мамаши» появились из ниоткуда, появились там, где им положено было, и занимались своим делом. Они играли. Ритм — нелогичный, меняющийся, как настроение галлюцинирующего хиппи, — расстреливал сознание, подминал его под себя, заставлял ноги двигаться. Это было изумительно. Нагромождение звуков могло бы распасться, превратиться в какофонию, но низкий голос певца связывал все воедино — доброта была в этих обертонах, глупый смех и умная ирония. И конечно, это была музыка. Невероятное, возмутительное и в то же время единственно возможное смешение рок-н-ролла и Двадцать первой симфонии Вебера; параллельных кварт ритм-энд-блюза и «Весны священной» Стравинского. Только один человек в мире мог делать это так. И он делал это сейчас на сцене — анархист и музыкант, авангардист и шут. Неподражаемый Заппа.
Вся их компания выплясывала уже перед сценой, Лиза и Краев присоединились к ним. Зря Краев боялся, что не умеет танцевать по-современному. Это нельзя было назвать современным танцем, да и просто танцем, пожалуй, тоже. Невозможно было танцевать под то, что выплескивалось из колонок. Можно было только ловить кайф. Чистый кайф. Наплевать на все рамки поведения, окаменелые от древности, и самовыражаться. Все в зале делали именно это. Краев не мог видеть всех — люди превратились для него в странные, извивающиеся, постоянно трансформирующиеся силуэты. Приоткрыв один глаз, он наблюдал лишь за поведением своей компании. Настя (или Зыбка — кто их разберет?) стояла одним коленом на полу и совершала безумные запилы на воображаемой гитаре. Диана медленно снимала с себя одежду и в сомнамбулическом трансе надевала ее как попало — брюки на руки, жилетку на ноги. Рот ее был широко открыт, а взгляд неподвижно устремлен в потолок. Чингис, с зажмуренными глазами, подпрыгивал на корточках, как борец сумо, и зависал каждый раз в воздухе на несколько секунд. Крюгер бешено кружился, вращая над головой свой обрезанный сиреневый смокинг.
А что делал Краев? Он и сам не знал. Он совершал какие-то движения. Он слушал ритмичное бормотание Заппы, переходящее в смех и вопли. Он держал на плечах взгромоздившуюся туда Лизу, но почти не ощущал ее веса — только упругие ее ноги, временами сжимающие его голову, чтобы не свалиться при неожиданных наклонах. Он чувствовал, что тело его становится все легче и легче. Он прилагал последние усилия, чтобы не взлететь. Не взлететь слишком рано. Дотянуть еще хоть мгновение в предвкушении полета — неминуемого и непостижимого, как оргазм.
Д-у-у-ви-и-у-у-у
Ешь свои ботинки
Не забудь струны
И сакс
Съешь даже коробку
Не зря ж ты закупил все это
Можешь есть грузовик
Что везет весь этот мусор
Мусорный грузовик
3-3-3-3-З-З-З-З-З-З-З-З-З-З-З-З-З-З-З-З-Заплесневелый
Мусорный грузовик
Ешь грузовик и его водителя
И его перчатки
ПИТАТЕЛЬНО
ВОСХИТИТЕЛЬНО
БЕСЦЕННО[7]
Заппа пел свою глубокомысленную муру, а парень в засаленной куртке из оленьей кожи, парень, которого звали Сал Ломбардо, валялся по зеленому ковру с обглоданным кукурузным початком во рту, и девчонки медленно поливали его блаженствующую физиономию белыми взбитыми сливками. Все было также, как сорок лет назад. Так же, как и в шестьдесят восьмом году. Время застыло, замерло на одном из своих кругов и проигрывало его снова и снова — как заедающую старую пластинку.