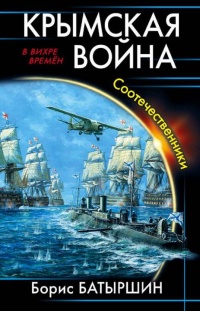И у меня на письменном столеВоскресла справедливая Европа,Где ледяное тело РиббентропаВисит в несодрогнувшейся петле.
А. Гитович– До связи! – Щелкнув тумблером, Валерьян удовлетворенно хмыкнул и некоторое время в задумчивости раскачивался на стуле. Он только что прослушал по рации полный текст Договора о присоединении и, пожалуй, остался доволен. Вообще-то он сильно сомневался в политических способностях Казакова, но Саня на этот раз, кажется, оказался на высоте. Ну да ладно, поживем – увидим…
Война принесла массу проблем, решать которые нужно было оперативно и – черт бы их побрал! – осторожно. И без того лихорадочная экономика требовала кардинальной перестройки (вот проклятое словечко, прилипло как банный лист еще на Земле!), требовалось наладить прочные связи с новыми территориями, требовалось восстановить разрушенный Новомосковск, требовалось оптимально разобраться с пленными рокерами… Требовалось, требовалось, требовалось…
Валерьян застонал: тягучая ломота, как всегда внезапно, прихлынула к затылку, отрикошетила за ухо и в виски, мелким комариным зудением задергалась в саднящих от бессонницы глазах. С достопамятного момента Майковского бунта время, казалось, взбесилось: оно то неслось галопом, то застывало тяжкими ватными секундами покоя. Оно слоилось в ошалевшем мозгу странными пестрыми пятнами, мгновенными голубыми зигзагами. Оно влажной багровой пульсацией распирало глазные яблоки. Он что-то делал, и действия его были молниеносны в своей машинальности. Сейчас эпизоды этих перенасыщенных дней кристаллизовались в памяти какими-то черно-белыми преувеличенно контрастными слайдами: обугленные бревна и обугленные трупы Новомосковска, приземистые бараки гуманитариев, женщина в рубище, с гноящимся рубцом наискось шеи, все порывавшаяся целовать руки расквартированным в поселке Котятам…
Неприятный, нелепый разговор с Казаковым (а по какому поводу лаялись, сейчас и не вспомнишь); веселенькая, совсем земная зелень теплицы при усадьбе очередного квестора; и снова – Новомосковск. Одутловатые, потухшие лица девчонок – их он увидел, когда, сбив ударом приклада замок, ворвался в приспособленное под тюрьму помещение склада; исчерна стальные, непрощающие зрачки освобожденных ребят…
Все это сливалось в одно всеобъемлющее: «Сволочи!» Сутками он мотался по отвоеванным поселкам, собирая материал для грядущего «Нюрнбергского процесса». Цифры получались жутковатые, но, переворачивая вверх тормашками статистику, громоздилось в памяти реальное наполнение сухой цифири: люди, низведенные до положения полускотов. Парни со сломленной, мертвой волей. Девушки, вздрагивающие от самого тихого обращения, парализованными зрачками вопрошающие: «Неужели и этот?» Фашизм в действии. Интересно, как после этого Казаков будет глаголить о «некоем разумном авторитарном элементе общества»?
Изредка, выдирая из жесткого ритма этого полуавтоматического функционирования, копошилось под черепушкой что-то садняще-повинное, из серии «не уберег», «а если бы я был там» и прочее. Валерьян гнал эти мысли. Гнал, как элементарно мешавшие работать. Но где-то на самом донышке все въедливей разрасталась мертвенная, скользкая ненависть к Майкову, из-за ущербного самолюбия которого он уехал в метрополию. Это проклятое «а вдруг?»…
Новомосковск отстраивался быстро: ребята работали с неуправляемым тихим остервенением, как будто от того, как они вкалывают здесь, зависело хоть что-то там, на фронте. Говорить с ними было трудно, вечера протекали в сухом пороховом молчании. После того как Совет отверг идею создания истребительного батальона из уцелевших шахтеров, участились дикие стычки, остервенелое собаченье после работы. Ярость, вызревшая, перебродившая, искала выхода. Валерьян с трудом контролировал ситуацию. Хорошо хоть, удалось задавить в зародыше попытку отправиться на «фронт» самостоятельно, пешим порядком через сайву, вооружившись шанцевым инструментом… Правда, с чисто производственной точки зрения все было тип-топ: вчера первый грузовик с углем ушел в столицу.
Диким, никак не укладывающимся в головах было то, что происшедшее – дело рук «своих», землян, да еще и вчерашних соотечественников. Даже самые спокойные, стоически перенесшие сумасшедшие первые дни, раньше других умудрившиеся освоиться на Теллуре, медленно зверели. Весть о победе и невнятные слухи о грядущем суде над рокерами, где обвинителем должен выступать он, Валерьян, еще больше подливали масла в огонь.
Вдобавок, вечером в Новомосковск прибывала группа пленных рокпилсских шлюх под конвоем десятка героических Котят. Казаков предупредил по радио: попросил разместить на ночлег и предотвратить возможные инциденты. «Еще кормить их, б…ей», – зло подумал Валерьян. С кормежкой было туго: снабжение возрожденного Новомосковска еще не наладилось, послевоенная неразбериха давала о себе знать. Казаков все еще сидел в Рокпилсе и, по слухам, примерял шутки ради корону Романа I. М-да, шуточки у Сани!..
Великий Координатор Первограда, Государь-император всея Великия, Малыя и Белыя Теллура, герцог Рокпилский, Великий князь Новомосковский, маркграф Коннозаводский, генсек Люберецкий и прочая, и прочая – Александр Первый!!! Ура-а-а!
А если серьезно, то с этим пора заканчивать: к нормальной жизни надо возвращаться, вот что. Вернуть Котят на вышки, осудить этих фашистиков – и баста. В успокоительные выводы верилось как-то с трудом. Нехорошее предчувствие занозой застряло под ребрами и отпускало лишь изредка.
– Амба! Расфилософствовался, мыслитель роденовский! – зачем-то вслух брякнул Валерьян и поднялся с надсадно скрипящего стула. Пора было идти, отдавать распоряжения о приеме «дорогих гостей».
* * *
– …и вот потому теперь мы… мы кровь проливали… Короче, выпьем, братья! Ура!.. – ломким фальцетом провозгласил Немировский и плюхнулся обратно на койку, расплескивая из жестяной кружки недопитый спирт. Барак гудел. В липком тяжелом воздухе барахтался неумелый мальчишеский мат и низкие взвизгивания пьяных девок. Рокпилсские красотки довольно быстро освоились в обществе победителей; сейчас они, по-животному отяжелевшие от спирта и браги, вповалку валялись на кушетках, вскарабкиваясь на колени к слабо соображающим хмельным Котятам, звенящим шепотом переругивались друг с другом, деля мужиков. Конвоируемых шлюх было больше, чем победителей, и Котята, в расстегнутой форме, осоловело обнимали по девице правой и левой руками. Благо хватало на всех с избытком.