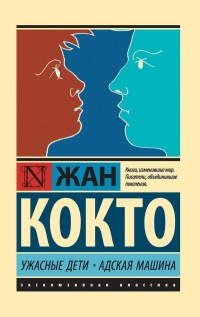Это не мешает мне делать вылазки в Париж, нужно признать, что этот период «странной войны» подчеркнул ирреальность жизни, с виду — совершенно неизменившейся в этом городе. Война объявлена. Армии стоят на границах. И все ждут. Чего? Какого сигнала? Какого чудовищного пробуждения? С невероятной легкостью французы сами, кажется, продлевают отсрочку кровопролития. Разговоры только о горячем вине для солдат и театрах для армии. Отпуска в конце года приняли такой размах, что это казалось уже чем-то вроде демобилизации. Несколькими днями позже мой ежедневный поезд прибыл с отслужившими свое елками, с обрывками лент на ветках и пустыми бутылками из-под шампанского. Когда мои бродяги выбрасывали из вагонов этот веселый мусор, мне казалось, я вижу, как вместе с ним выбрасывают на свалку мужчин в смокингах и дам в вечерних туалетах, смертельно пьяных, вместе с гирляндами, стеклянными шарами и золотой канителью. Вот так столица присылает мне каждое утро вести о себе — с этим поездом-фантомом, тонны новостей, которые именно я должен расшифровать одну за другой, чтобы реконструировать до малейшей детали жизнь каждого из ее обитателей.
Мои поездки в Париж и обратно в Сент-Эскобиль — от безлюдного небытия моей свалки до небытия людей большого города — убеждают меня всякий раз в мысли, что мое одиночество, прерванное было в Роане, снова сгустилось вокруг меня. Я прижился здесь в какой-то степени случайно, в какой-то степени по чувству сходства со странным обществом, у которого было мало шансов на выживание. Это было понятно сразу. Мне оставался только Сэм. Надолго ли? Еще остался секс, этот вечный взломщик уединения, без сомнения именно он толкает меня в Париж, хотя мне кажется, что роанская пауза закончилась и теперь я выхожу на охоту на своих мусорных пространствах. Конец Даниэля означал для меня, что мистическая экзогамия,[5]заставлявшая меня расширять пределы охотничьих угодий за пределы обычных мест, после короткого перерыва, вернулась ко мне во всей своей суровости…
Эндогамия,[6]экзогамия. Мало размышляют над этим двойным движением, этими двумя противоположными императивами.
Эндогамия: оставайся среди своих, не высовывайся. Не связывайся с чужаками. Не ищи счастья на чужбине. Горе молодому человеку, который знакомит с родителями невесту, принадлежащую к другой религии, к другому социальному слою — выше или ниже тебя, говорящую на чужом языке, другой национальности и даже — вот предел ужаса — другой расы!
Экзогамия: ищи для любви места подальше. Иди искать свою женщину. Уважай свою мать, сестру, кузину, жен братьев и т. д. Семья потерпит только сексуальность такого же рода, как у твоего отца, строго ограниченную целью деторождения. Твоя жена должна привнести новую кровь нашему роду. Ее завоевание будет для тебя приключением, оно заставит тебя удалиться от знакомых пределов клана, там, вдали, ты обогатишься новым опытом, созреешь.
Эти две противоположные заповеди сосуществуют в гетересексуальном обществе и ограничивают территорию сексуального поиска внутри двух концентрических кругов:
Внутренний круг А изображает семью заинтересованного лица, и к нему относятся индивидуумы, оставшиеся нечувствительными к запрету инцеста. В большом круге В — территория дикая, неизведанная, недоступная для приверженцев эндогамии. В круге Б — ниже верхнего и выше маленького круга находится привилегированная зона, где молодому человеку разрешено самому выбирать партнера. Эта зона способна увеличиваться или расширяться… Она может в определенных случаях сводиться к крохотной точке, когда один определенный человек останавливает свой выбор всего лишь на одной единственной женщине. Я полагаю, такие случаи встречаются среди африканских племен, но проблема браков королевских дофинов тоже укладывается в эти рамки.
Все эти правила придуманы гетеросексуалистами для гетеросексуалистов. Если речь идет обо мне, они приобретают новизну и пикантность.
Экзогамия. Я понял, что одна из самых порочных склонностей моей природы привела меня к сосредоточению на самом себе, к пустынному и бесплодному одиночеству, питающемуся собой. Моя слабость называется гордостью, слово замечательное потому, что оно означает по-французски и яд, вливаемый в душу высокомерием, и презрительную надменность, и место, где хранят неопознанные трупы.[7]
Однако моя сексуальность — могучее, действенное непобедимое лекарство против гордости. Оторванный от материнских юбок, выгнанный из своей комнаты, выброшенный за пределы самого себя центробежной силой секса, я оказался в руках, скорее меж ляжек… не важно чьих — привратника, помощника мясника, шофера, гимнаста и т. д., тех молодых людей, чье очарование тем действеннее для меня, чем дальше они от меня, чем грубее тесто, из которого они сделаны. И нужно добавить, что объект терял для меня всякую привлекательность, если я имел хоть малейшее сомнение в чистоте его гетеросексуальности. И даже нежность и чувство братства, которое я испытываю к гомосексуалистам, ничего не меняют в этом. Гетересексуалы — это мои женщины. Других мне не надо. Это мой экзогамический императив.
Род всегда был для меня центробежной силой, отбрасывающей меня далеко от моего «я» туда, где горит огонь желания, мрачно пылающий в ночи глазом маяка. Я растоптал свою гордость на реннских улочках, пользующихся дурной славой, на блестящих от дождя набережных Вилена, в воняющих карболкой мужских туалетах. Удивительно, но она сопротивлялась подобному обращению. С детства самый низкий человек, стоящий на нижней ступени социальной лестницы, для меня был тайно озарен почитанием как возможный объект желания, как носитель идола с хоботом, победно возвещающего о себе из-под святилища своих одежд.
Эндогамия. Это предел экзогамии, с лицом невидимым, скрытым и совершенно противоположным. Так как мужественность, радостная, вздымающаяся, обожаемая мной в моих сообщниках, есть образ моей собственной мужественности. В основе гомосексуализма лежит нарциссизм, и если моя рука так умело и нежно ласкает других, то это потому, что с самого нежного возраста, она привыкла ласкать и нежить меня самого.
Если вернуться к схеме кругов, мои амурные наклонности ухитряются дважды насмеяться над гетеросексуальными запретами. Совершенно очевидно, что я всегда ищу добычу очень далеко, в круге В, в зоне, запрещенной для приверженцев эндогамии. Но я устанавливаю с моей добычей отношения столь братские, нарциссические, отождествляю ее с самим собой и тем самым уношу и пожираю ее в самом маленьком центральном круге А, запретном для экзогамов. Вся моя необычность, вся моя глубокая порочность чурается средней зоны Б, с ее мнимой близостью и мнимой отдаленностью, области, чуждой гетеросексуалам. Она меня не интересует, я перемахиваю ее одним прыжком, забрасывая удочки в самой дальней дали, чтобы потом перенести пойманных рыбок на свой заповедный берег.