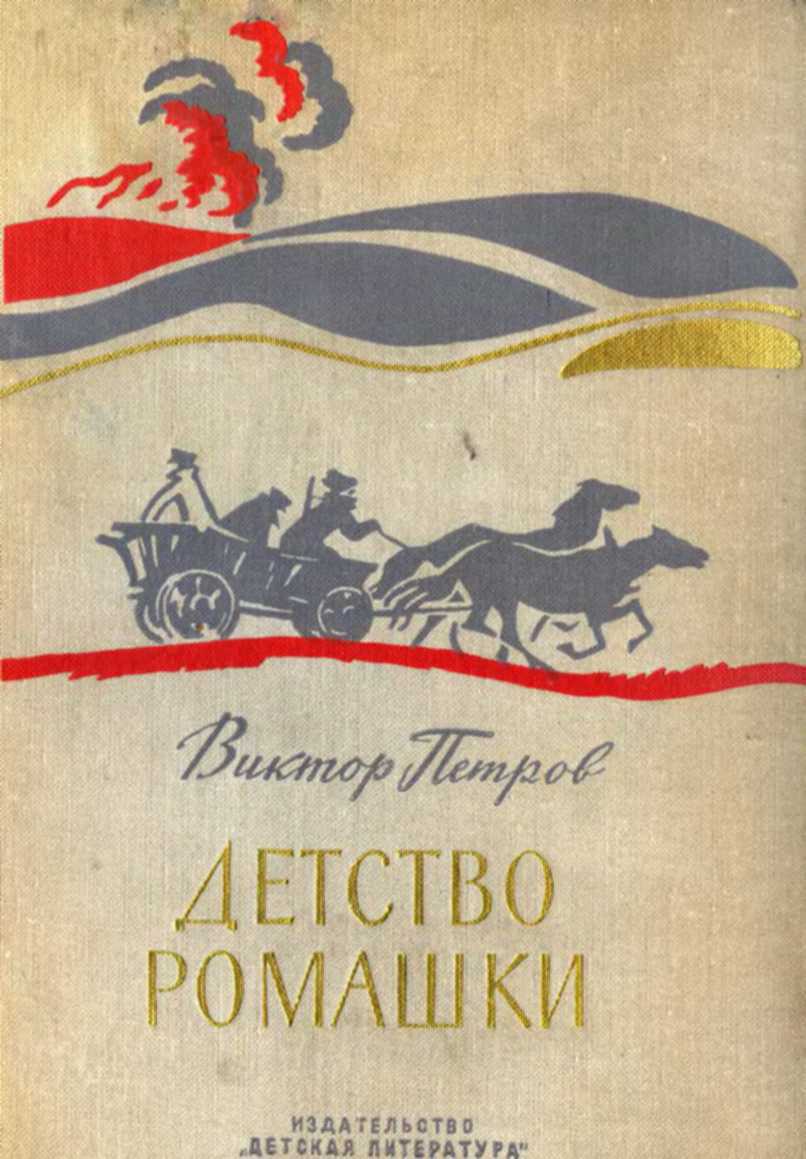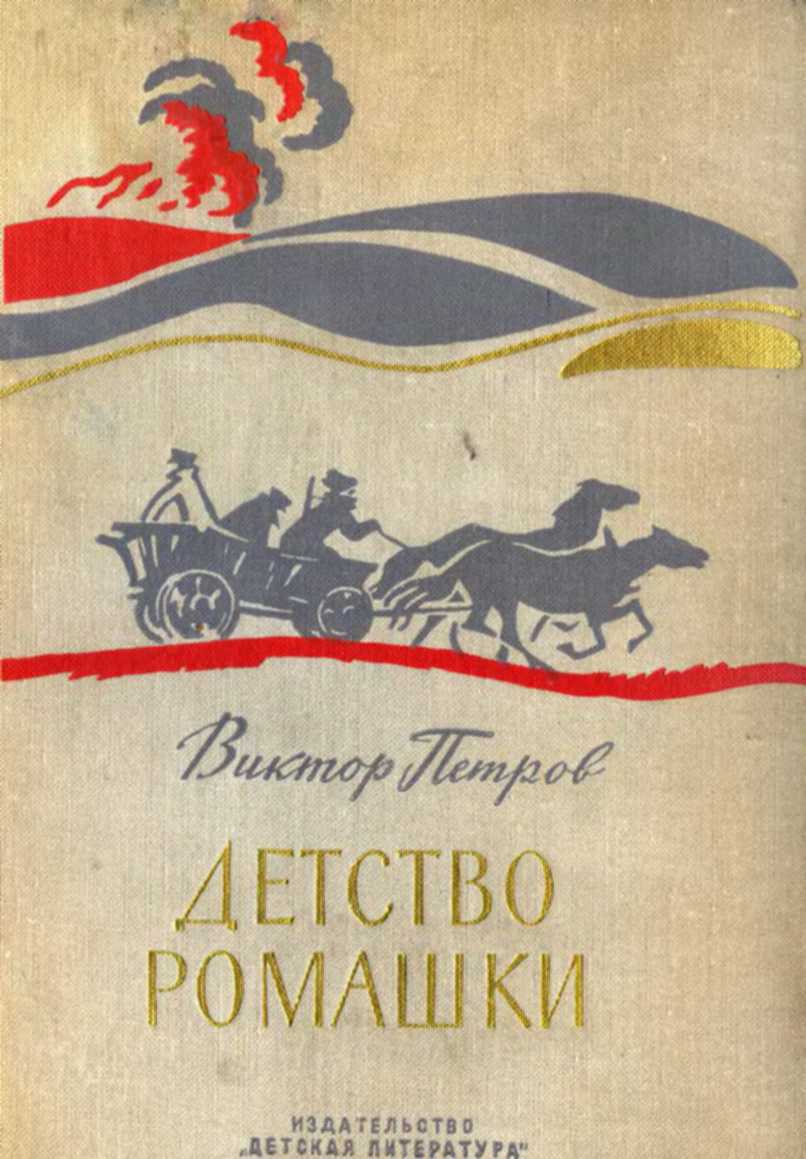но нетерпение мастера Кита было велико – он желал поскорее понять, что мог бы сочинить толмач-поэт, если он вдохновлялся поэтами древности.
Ему присоветовали старца, который знал арабский, персидский, наречие казанских татар и наречие крымских татар, понимал по-гречески, но, прожив более десяти лет на Москве, по-русски мог разве что прогнать уличных мальчишек, вздумавших его дразнить.
Старец был найден в доме своего сына, а может, внука. Он сидел на полу, на сложенных одеялах, сгорбившись, растопырив коленки на татарской лад, кутался в полосатое одеяло, которое торчало выше его головы, так что мастер Кит даже не сразу понял, что неподвижная кучка тряпья перед ним – живой человек.
Человек был темнокож, морщинист и давно не мылся. Или же омовение совершал, как в пустыне, песком. Он испугался, увидев мастера Кита и незнакомых мальчиков, даже пробовал отползти подальше, упираясь в пол руками, и стало ясно – старик почти обезножел. Прибежала неопрятная женщина, закричала, попыталась выставить гостей, на крик вышел ее мужчина, прогнал ее и вступил в переговоры. Он сносно говорил по-русски, за услугу потребовал денег, получил две копейки и, нагнувшись, стал кричать прямо в ухо старику.
Мастер Кит уж был не рад, что забрался в это вонючее жилище, где пахло немытым стариковским телом, детскими пеленками, подгоревшими жирными тряпками и невесть чем еще. Нужно было поскорее оттуда убираться, но старик уразумел, чего от него хотят, и вдруг, выпрямившись, запричитал нараспев, воздевая руки ввысь и раскачиваясь в лад своим страстным воплям.
– Что это? – спросил ошарашенный мастер Кит.
– Он говорит о своей любви к Лейле, о том, что ее увезли, что караван ушел к морю, что верблюды торопятся, потому что будет гроза, – скучным голосом перевел толмач-родственник. – Что ветер дует в спину, что Лейла за перевалом, что его сердце отправилось вслед за Лейлой, что он в печали… Что его душа покинула тело, что страсть дерет когтями его сердце, словно сокол добычу… Может быть, с господина этого будет довольно?
Мастер Кит подумал, что насчет когтей – чистая правда, только от боли можно так вопить. И невольно вспомнил тех поэтов, которых собирал у себя в гостиной сэр Уолтер Рейли, моряк, поэт и истинный аристократ духа. Он пригрел тогда юного Кита – но никто не нянчился с новичком, как с больным младенцем, и когда мастер Кит написал прекрасную, как ему казалось, пастораль «Страстный пастух – своей возлюбленной», сам Рейли не поленился и создал блистательный «Ответ нимфы», порядком насмешивший всю компанию. О, как там читали стихи, как выверяли взлеты и падения строк, как точно рассчитывали паузы… горело пламя в камине, горели ароматические свечи, играли интонациями, становясь то стальными, то бархатными, молодые, прекрасные, прошедшие школу музыки и пения голоса…
И никто не кричал, надрываясь и на последних строчках уже хрипя…
Мастер Кит не знал, что поэзия может быть и такой.
Старик продолжал читать, все тише и тише, хватая воздух, и вдруг мастер Кит понял – остановками он обозначает концы строк, и завершаются строки одинаковыми созвучиями, и у арабских поэтов, значит, была рифма. Рифма!
Словно дрожащая лютневая струна вдруг натянулась между тем, затерянным в веках и пустынных холмах, кого старик звал Имр-уль-Кайсом, и самим мастером Китом. Люди, у которых есть рифма, показались ему роднее и ближе тружеников Английского двора.
И рифмой владел тот пленник на Крымском дворе. Рифмой!
Это было совершенно неожиданное потрясение.
– Скажи ему, пусть читает еще, я заплачу! – велел толмачу мастер Кит.
Старик перевел дух, вытер пот со лба и задумался. Потом хрипло произнес несколько слов, замолчал, еще несколько, опять замолчал, и вдруг заговорил, голос задрожал, цепочки непонятных слов вылетали, и снова каждая завершалась рифмой. Не было необходимости понимать – когда толмач попытался перевести, мастер Кит только замахал на него рукой: молчи, болван, ради всего святого!
Голос старика вдруг окреп, зазвенел, шея вытянулась, морщинистое лицо запрокинулось, седая бородка торчала вверх, глаза почти закрылись. Спина почти выпрямилась, даже прогнулась, будто незримая рука поддерживала ее, положив ладонь между лопатками. Дыхание стало полным – легкие старика словно ожили. И голос! Голос стал радостным.
А потом, не завершив строки, голос оборвался, и старик стал заваливаться на бок. Только тут толмач-родственник испугался, кинулся к старику и, опустившись на колени, стал его трясти.
Мастер Кит знал, что это бесполезно. Бросив на кошму несколько «чешуек», он повернулся и молча вышел из дома под снегопад.
Он вдруг понял, что такое счастье.
Когда он возвращался из Толмачевской слободы, то едва не свалился под копыта возника, так задумался о сути и силе поэзии, возрождающей и убивающей. Он даже поймал себя на зависти – среди его трагических монологов не было такого, который можно прочитать на последних остатках дыхания. Потом он вспомнил толмача Бакира и вдруг понял – такой человек не должен выкрикивать стихи так, словно молит палача о пощаде. Даже если он пишет, как Лейлу увез караван! Такой человек и пишет иначе, и читает иначе. Он – другой…
Он не шатался по свету, терпя холод и жажду, меняя женщин и убивая врагов. Он всего лишь жил мирной жизнью толмача при своем господине, любил жену и детей, честно служил Тауекель-хану. Его стихи – не из тех, что выкрикивают с последней предсмертной силой голоса. Но ведь и он – поэт…
Вернувшись на Английский двор, мастер Кит получил от Меррика нагоняй: пора собирать имущество, иначе обоз уйдет без него.
– Отправлюсь со следующим обозом, – буркнул мастер Кит и пошел за лютней. Он решил, что не оставит инструмент в чуждой ему Москве и вернет на родину.
– Следующего зимой может и не быть! – крикнул Меррик.
– Ну и дьявол с ним.
Нужно было дождаться Сулеймана, который обещал принести другие арабские стихи, нужно было сходить с ними в Толмачевскую слободу, найти другого чтеца. Мастер Кит чувствовал себя так, как, должно быть, доктор Фауст, вдруг обнаруживший, что его заклинания для вызова нечистой силы почти утратили власть, но есть другие заклинания, мощные и непобедимые. А владеет ими, возможно, человек со взглядом ребенка, кормящийся простым ремеслом, которому нужна не всеобъемлющая власть, а всего лишь любовь