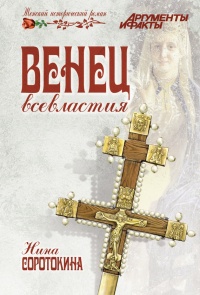Ознакомительная версия. Доступно 15 страниц из 74
двадцать саней с основательной поклажей растянулась на добрых пятьдесят верст.
В лихие времена везти богатства через всю Россию – тяжкое бремя, и Степан не ведал отдыха. На белоснежном жеребце носился он из одного конца в другой, строжил казачков, отправлял дозорных, чтобы разведали, нет ли разбойников на дороге. Строгановские служилые, проверенные десятками походов, съевшие пуд соли и пуд пороха, казались надежней железа. Да только и его ржа берет.
Голуба, правая рука – Степан ухмыльнулся и глянул на пустой рукав – плелся в хвосте обоза на смирном жеребце. Он не носился, точно подгоняемый бесами, от одних саней к другим, не сыпал шутками, не хохотал, не подкидывал шапку… Ходили по деревням сказы, Степан о том слыхивал, что детей лешие меняют, подсовывают вместо них своих лешачат. И Степану казалось, что друга подменили вороги.
– Пантюха! – гаркнул ему в ухо, и Голуба вздрогнул, точно сенная девка.
Подменили, как есть!
– Степан, что озоруешь-то?
– Лучше озоровать, чем тоску в душе месить. Друг, подними нос.
Голуба улыбнулся, блеснув дырой меж зубами, что становилась шире год от года. Степану сказали бы, что друг его скоро станет тихим и смурным стариком, не поверил.
– С Москвы вернемся – и довольно мне, – точно услышал его думы Голуба.
– Чего ж довольно?
– Всего. – Голуба отпустил узду и показал на сани, вытянувшиеся вереницей, чахлые деревца и серую хмурь небес.
– П-ц-ц-ц. – Степан выдохнул воздух, и жеребец понесся вперед. Худо придется без Голубы, да каждому своя мера жизни и работы.
Ежели бы отец вздумал убрать из семейного дела иль хвороба пришла, украла силы, Степан лучше б утонул в Каме. Пусть схоронят за церковной оградой на радость чертям![91] Приклеить зад к лавке, целыми днями орехи щелкать да грамотки ворошить – для мужика поганая участь.
* * *
До Великого Устюга – день пути. К вечеру обоз ехал по окраинной улочке, будоража псов и городских зевак. Не зря Степан выручил по весне Митрофана Селезнева, родича Аксиньи. Теперь ожидал теплой постели и сытного ужина для себя и людей своих.
Первый же мужик указал, как доехать до большого каменного дома Селезнева, торгового гостя. Степан оценил новые ворота, огромный двор с высокими амбарами и прочими дворовыми постройками, расписное крыльцо. Слуга поклонился ему, углядев кафтан, подбитый бобром, – такому попробуй не поклонись.
– Сын мой по делам уехал. – Дородная баба качнула голову в вычурном кокошнике. Каменья украшали ее без меры.
«Жаба, старуха, и притом злая, – сразу решил Степан, оглядев Аксиньину сестру. – И на мою Аксинью ничуть не похожа».
– В том великое огорчение, – отвечал степенно. – Мне с людьми бы переночевать. Много не надо – сарай или сенник да миску каши.
Баба ничего не отвечала. Крысиные глазки обшаривали Степана, точно за пазухой прятал он бутыль с ядом.
– Василиса Васильевна, он опять стонет. – Юркая молодуха подскочила к бабе, но, увидав гостя, охнула и с испугом покосилась на хозяйку. «Попадет служанке», – решил Степан. Кто стонет, его вовсе не беспокоило, как и судьба молодухи.
– А сколько с тобою людей? Человек пять разместим, не боле. Дом мал, да и своих ртов хватает.
Степан поклонился и ушел из негостеприимного дома, поминая худым словом Василису Васильевну и ее болтливого сына Митрофана.
* * *
Постоялые дворы – жидкая похлебка, клопы и блохи. С недавних пор Степан разнежился, обзавелся тонкой кожей и теперь ворочался, не мог уснуть, проклинал постельных гадов.
Голуба храпел на соседней лавке, Хмур спал тихо, точно младенец. Степан натянул порты и сапоги, накинул кафтан на голую грудь и решил вдохнуть морозного воздуха: авось сон нагонит.
Двор и средь ночи наполнен был звуками. Лай, ржание лошадей, шутки подвыпивших служилых, смех непотребных девок в кабаке. Степан оперся о стену, вспомнил о брюхатой Аксинье и сыне, что совсем скоро должен был вылезти на божий свет. Думы размягчали сердце, ослабляли плоть, и Степан усилием воли отогнал их. Надобно мыслить, как сберечь доверенный отцом груз, как без препятствий доехать в Москву. О прочем еще позаботится.
Просмоленные факелы у входа в постоялый двор разгоняли тьму. Степан почуял, как просится наружу свекольный квас, развязал порты и радостно излил багряное на белый снег. Он поправил порты, запахнул кафтан – ночной морозец добрался до груди.
Какой-то шорох одесную[92] насторожил его. Да кто мог копошиться за углом? Пьяница, пес или ветер… Но осторожность, выработанная за годы странствий, увела его влево, подальше от неведомого шороха. И вовремя! Что-то мощное, быстрое проскочило мимо.
Крупный мужик обрушил дубину на то место, где только что была Степанова голова. И хоть увечная десница не могла отплатить должным образом, ноги не потеряли способности пинать и увечить, а шуя – выдавливать глаза и ломать нос.
– Кто велел? Говори, кто? – повторял он и вкручивал каблук в мягкий зад, но детина только хрипел, скулил и пытался заползти под крыльцо.
Трое служилых еле оттащили Строганова от разбойника. Кто приказал напасть на старшего сына властителя пермских земель, выяснить так и не удалось. Степан заснул сразу – успел лишь сжать в кулаке льняной мешочек с кореньями и поблагодарить ведьму за ее заботу. Без оберега, волшебных кореньев, дарованных Аксиньей, не детина бы сейчас лежал изувеченным и побитым… Не детина, а Степан.
* * *
Недалеко от Шуйского Яма обозу пришлось туго.
Выпал рыхлый, ноздреватый снег, и пришло нежданное и пакостное тепло. Кони увязали в снегу, с усилием хрипели, вытаскивая из белых ловушек сани с богатым грузом. Казачки` сновали вперед-назад, жеребцы под седлами были куда поворотливее и словно насмешничали над тягловыми собратьями.
– Ежели нападет кто… Ох, голуба, – присвистнул друг, и Степан поглядел на него так, что он умолк на полуслове. А культя начала чесаться, точно грызли блохи. Не к добру.
Строганов ехал ровнехонько посередине обоза, с ним шаг в шаг один из молодых казачков. Голуба увяз где-то в конце, остальные сновали меж саней. И, как это бывает в пути, Степан ехал и в сливающейся с небом белой пелене видел не дорогу, которой ни конца ни края, не деревья и кусты в белых кафтанах, а женскую мягкую кожу, ноги, стыдливо сведенные в коленях. Не рябину на ветках – пунцовые губы и навершие груди.
«Эх, ведьма, и здесь не отпускает», – пробормотал, снял шапку и тряхнул ею что было мочи. И мысли шалые увести, и снег счистить. Шуя иногда подводила – и шапка полетела под ноги скакуну.
– Едрит тебя!
Строганов остановил коня и с трудом
Ознакомительная версия. Доступно 15 страниц из 74