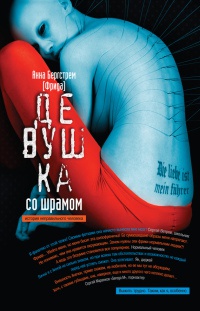— И откуда только она берется? Тебе кажется, что в этом нет ничего особенного, но ведь у большинства людей ее нет и крупицы.
Гертер пожал плечами:
— Это мой наследственный груз. Я, как и все, в первую очередь всего лишь явление природы. Может быть, в моем случае это каким-то образом связано еще и с тем, что я рос без братьев и сестер. Я часто оставался один, мои родители были иммигранты, они мало с кем общались, среди голландцев — и вовсе ни с кем. У нас дома было совсем не так, как у них. В семьях моих товарищей всегда повторяли: «Доедай до конца то, что на тарелке», а моя мама учила меня что-нибудь обязательно оставить, картофелину, например, «а то люди могут подумать, что ты не наелся, а в этом мало шику». Я никогда не был среди сверстников до конца своим и создал свой собственный мир. Сыграло, видимо, роль и то, что родители развелись. Одним словом комбинация всех этих причин. Как бы то ни было, я по этому поводу никогда не переживал. Я сам не хотел ни к кому примыкать. Другие стремились примкнуть ко мне, и тогда, и потом.
В его голосе зазвучали раздраженные нотки, которые не прошли мимо ушей Марии. Она слушала его и одновременно смотрела телевизор; в эту минуту она взяла со стола пульт и включила звук. Гертер, немного раздосадованый тем, что Мария как бы подвела черту разговору, стал смотреть вместе с ней документальный фильм про природу. Под угрожающим небом Африки на стадо буйволов напали шакалы; голос за кадром сообщал, что нацелившиеся на буйволенка шакалы для начала отделили его от матери. Когда шакалы набросились на буйволенка и стали рвать его на части, Гертер, не скрывая враждебности, спросил:
— Не довольно ли, Мария?
Когда никакой реакции с ее стороны не последовало, он сам взял пульт, лежавший у нее на коленях, и выключил телевизор. Она взглянула на него с недоумением:
— Как это понимать?
— Я не хочу этого видеть.
— Но я хочу. Не валяй дурака, это всего лишь природа. Дай сюда эту штуку.
Гертер засунул пульт во внутренний карман.
— Мне не надо видеть это, чтобы еще раз убедиться, что вся природа — страшное фиаско. — Он махнул рукой в сторону погасшего экрана. — Оператору нужно было очень просто поступить — всего-навсего отложить на время камеру и спасти буйволенка. Так нет же, он снимал и, потирая руки, приговаривал: «Здорово, здорово, классно!»
— Я иду спать, — сказала Мария, поднимаясь с места. — Мне здесь не нравится.
Гертер закрыл глаза и вздохнул. По большом счету даже она его не понимала, но это не мучило его, а, скорее, лишь подтверждало давно известную истину. Однако он удовлетворенно заметил, что Мария не включила телевизор в спальне. Дверь она оставила открытой, и он мог видеть, как она раздевается, избегая его взгляда и в то же время сознавая что он на нее смотрит. Возвратившись из ванной комнаты, она сразу забралась под огромное пуховое одеяло, став для него невидимкой, и принялась читать книгу о проблемах высокоодаренных детей, которую захватила с собой из Амстердама.
Гертер положил пульт на стол, налил вина в два бокала, подошел и присел на край кровати. Чокнувшись, они несколько секунд молча смотрели друг на друга, свободная рука Гертера покоилась на ее бедре. Мария поставила свой бокал на ночной столик и, прикрыв его руку сверху своей, сказала:
— Я забыла тебе рассказать. Вчера Марникс вдруг спросил меня, кто такой Гитлер. Он услышал что-то на эту тему. Я ему немного рассказала, и тогда он сказал: «Гитлер сейчас в аду. Но раз он любит все нехорошее, то это для него рай. В раю все евреи, и, значит, для него это ад. Получается, в наказание надо было отправить его в рай». Как ты это находишь? И это в семь-то лет! Есть уже чему поучиться.
4
Стеная и жалуясь, что он стал писателем не для того, чтобы создавать бессмертные шедевры, а только чтобы иметь возможность утром подольше поспав, Гертер на следующий день поднялся с постели в восемь часов. Через час было назначено первое интервью, перевернутая бутылка шампанского торчала из ведерка со льдом, и рядом с ней еще одна бутылка из мини-бара, наполовину опустошенная, — вчерашняя вечеринка затянулась глубоко за полночь, свет погасили только после пяти. Он чертыхался по адресу беременного второго лица — и зачем было составлять такую программу? — но после душа и завтрака, заказанного в номер, состояние его несколько улучшилось. Когда в дверь постучал первый журналист, Марии уже не было: она отправилась в Музей истории искусств.
Девятичасовой журналист, десятичасовой и одиннадцатичасовой, все они явились в сопровождении своих фотографов и все смотрели его вчера вечером по телевизору. Первая серия вопросов неизменно касалась «Открытия любви», книги, которую, как выяснилось, каждый из них действительно прочел. Как мог, он старался не повторять всякий раз одно и то же. Повторы, впрочем, были неизбежны, но желательно не в одном и том же месте и не в одно и то же время. Не существует людей, которые читают все, и если два аналогичных высказывания разделяет достаточно большое расстояние и время, то ничего страшного в этом нет. Только он один знает, что такую-то мысль он уже излагал однажды в Амстердаме, Париже или в Лондоне. Все три журналиста перешли затем к идее, которая внезапно родилась у него вчера вечером: поместить Гитлера в выдуманную ситуацию, чтобы лучше его понять. Это было ему не слишком приятно, ведь на многих своих коллег-литераторов он смотрел как на воров-карманников, готовых в любую минуту его обокрасть. Не желая давать им козырь в руки он решил сбавить цену своей мысли с помощью аргумента, приведенного Марией: дескать, вряд ли можно придумать ситуацию экстремальнее той, которую воплотил сам Гитлер.
В половине двенадцатого он поставил точку в последнем интервью — ему все надоело и захотелось выйти на улицу подышать. Сойдя со ступенек отеля, он глубоко втянул в легкие холодный воздух. Был ветреный день, с поднятым воротником и развевающимися волосами он шел по шикарной торговой улице в сторону собора святого Стефания. И сейчас Гитлер не давал ему покоя. Почти сто лет тому назад по этой улице, возможно, шагал и он, бедняк в поношенной одежонке, с дикими мыслями в голове, он направлялся в сторону театра оперы, чтобы, отстояв очередь, попасть по входному билету в партер на «Сумерки богов»; кто знает, может быть, его фанатичный взгляд на секунду встретился со взглядом прохожего, элегантного офицера приблизительно одних с ним лет — на боку сабля в дорогих ножнах, в глазу монокль, во внутреннем кармане «Афоризмы жизненной мудрости» Шопенгауэра — это будущий отец Гертера торопился в «Захер» на любовное свидание.
Не дойдя до собора, Гертер свернул налево и вышел на Грабен. Центральной осью пространства, которое представляло собой нечто среднее между площадью и улицей, служила многометровая колонна, возведенная в семнадцатом веке в благодарность Богу за избавление от чумы, — ее, конечно, наслал не кто иной, как сам Дьявол. Гертер остановился и стал рассеянно рассматривать барочный памятник, вздымавшийся в небо подобно бронзовому кипарису. На самом деле конец чуме положил вовсе не Господь Бог, а Александр Флеминг, открыватель пенициллина, за что заслужил памятник высотой с собор святого Петра в Риме. Гертер шел дальше, вспоминая роман Альбера Камю «Чума»; Черная Смерть в нем символизировала национал-социализм. Эпидемия чумы семнадцатого века стоила жизни тридцати тысячам венцев, а за период шестилетней гитлеровской чумы и от ее последствий в Вене умерло двести тысяч человек. Почему не нашлось современного Флеминга, который изобрел бы антибиотик против этой заразной болезни? И почему венцы в знак благодарности не поставили памятник тем эскулапам, которые совместными усилиями освободили их город в 1945 году?