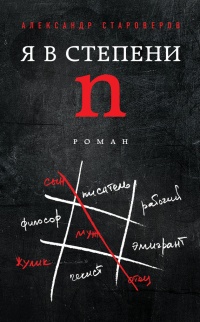Нередко наведывались в участок археологи, рывшие землю по окраинам страны, где в минувшие тысячелетия процветали славные, а ныне забытые государства – Тохаристан и Бактрия, Кушанское царство и Могольская империя. Распаковывали находки, как посылки от дальней родни, хотя кое-что в них неприятно удивляло. Например, мрачная личина по прозвищу «Кипчак», вырезанная, как определили, костяным ножом из дерева карагач, – такую можно встретить лишь злосчастной ночью в темной подворотне. Не хотелось верить в духовные узы.
Зимой ворота в райский сад были закрыты и завалены снегом. Сквозь мерцавшие инеем стекла виднелись огни соседних домов, а через потолок, присыпанный снегом, – отдельные и потому несуразные части мигающих галактик.
Как-то в нетрезвом сне Туза озарило теплое сияние, наполненное словами, и явился Козьма с гвоздем в руке: «Хоть ты, тезка, и отказался от врожденного имени, а скажу тебе, как брату во Христе: ничего не бойся, Бог не выдаст, свинья не съест. Пойми, каков ты, и делай, что присуще, – с восторгом перед бытием»… Он пробудился в упоении, осознав, как должен проживать далее, и тут же услышал шепот с антресолей, с места под солнцем, где работали, а затем нередко и ночевали Филлипов с Липатовой. Они шушукались о первородном грехе. Частенько беседовали об этом грехе, суть которого Туз никак не мог уяснить.
«Как думаешь, долго ли Адам с Евой жили в раю?» – осведомилась Липатова. «Не мало. Больше, чем в нашем мире», – пробормотал Филлипов.
«А есть ли в раю половая жизнь?» – настолько призывно молвила Липатова, что все внутри у Туза опрокинулось. «Ну, это маловероятно», – вяло ответил Филлипов. «А я думаю – есть! – повысила голос Липатова. – По крайней мере у прародителей точно была. Они и рай-то покинули, чтобы продолжать ее без надзора»…
Было слышно, как Филлипов, поперхнувшись «судьей», поднялся и закурил: «Что за чушь! Вкусив от древа, они нарушили заповедь. Их выгнали из рая, как высылали из Британии преступников в Австралию». «Глупости! – разгневалась Липатова. – Грех не в том, что Адам с Евой слопали фрукт, а в том, что избрали новое место проживания. Они нарочно ослушались, чтобы им указали на порог рая – надоело там. Словом, они беглые, а не ссыльные!» «Открою тебе секрет, – мрачно сказал Филлипов и перекрестился, судя по долгому четырехпалому звуку. – Не хотел сейчас об этом, да ладно – истина дороже – помяну всуе имя Божие. Как и предупреждал Яхве, они скончались! Не соблюли установленного поста и умерли в раю и для рая, но не заметили своей смерти, родившись тут же для этого мира». – И он снова шумно выпил, закусив с лимонного дерева. Липатова отметила это с издевкой: «Эх ты, а еще говоришь – ласки твои лучше вина! Тоже мне – судья фигов! Да как ни суди, а без греха не было бы известной нам истории. Ее бурное развитие сам Творец замыслил. Какому Господу нужна тишь да гладь, всеобщая благодать!?»…
Туз во всем соглашался с Липатовой и, думая о рае, непременно вспоминал свою потерянную цыганку. Именно такой представлялась ему Ева – гуляющей в парковых зонах с маленьким бубном под мышкой, пускающей время от времени легкие волны.
Второй Иуда
Вообще-то Туз не ощущал за собой никакого первородного греха. Жизнь казалась ему вполне райской. Он был горд уже тем, что родился в этот мир. Хотя все же на всякий случай старался вести себя примерно, никого не осуждая и всех любя. Возможно, не так, как следовало бы, то есть чрезмерно.
Когда холстинный полог приподнялся наконец со штукатурки, взору Туза явилось что-то невразумительное, будто вновь навалилась куриная слепота, сквозь которую еле угадывался бородатый образ в нимбе. Грубо бросалось в глаза лишь слово из шести букв с окончанием «ец», начертанное, конечно, в смутные времена и означавшее крах всему. «Тем не менее это святой Афанасий, – сказал Филлипов, – духовник Ивана Грозного, проживший сто два года начиная с шестнадцатого века».
Подошла и Липатова, дыша весенними ароматами, будто цветущий абрикос, испуская свежий, клубящийся дух: «Похоже, что Афанасий, да другой, – поглядела в лупу, – Александрийский, живший в четвертом веке, богослов и автор учения о „единосущии“. Ты не слишком скальпелем упирайся, Тузик, – сущность его проявится, когда захочет»… К Великому посту просветлело, и Филлипов с Липатовой увидели старца Мефодия со стилом – брата Кирилла из Салоники, проповедника и создателя славянской азбуки. Образ его, угнетенный надписью, был грустен. Вряд ли предполагал Мефодий, что славяне употребят дарованные им буквы в таких непотребных сочетаниях. Он как бы говорил отсутствующему Кириллу: «Да, брат, опростоволосились мы! Кому, брат, азбуку дали?!»
Под стать монаху Туз отпустил бороду и волосы до плеч. Войти в образ Мефодия было не так-то просто, зато помогало в работе. Перво-наперво затонировал вещее словечко, которое настраивало на игривый лад. «Молодец! – одобрил Филлипов. – Верный ход. А то ведь женщины читают»… Но тут встряла раздраженная постом и вообще воздержанием Липатова: «Не знаю, чем уж так противно тебе это слово? Тоже, кстати, живая история! Истинный вкус, говорил Пушкин, не в безотчетном отвержении, но в соразмерности и сообразности». Почувствовав, что не туда заехала, продолжила с меньшим напором: «Ну, может, здесь оно не по размеру, но в тебе, Филлипов, говорит, уверена, мужской шовинизм».
Наконец в самом начале Страстной недели и впрямь выявился, когда сам захотел и в каком пожелал образе, а именно некто иной, как одинокий Козьма с гвоздем в руке, будто им и накарябал похабное известие.
«А где Демьян? – строго спросил Филлипов. – Уж не счистил ли, ты, олух, Демьяна?» Он забывался в ту пору, восстанавливая на пару с Липатовой «Тайную вечерю» из Фарного костела, что в Могилеве. Обязался воскресить все лики за две недели, точно к Пасхе, и недосыпал.
Они поспели к сроку, хотя неожиданно возник лишний, тринадцатый апостол. Филлипов, кажется, вскрыл более древний слой живописи. «Вот, братие, теперь тут два Иуды», – нервно усмехался.
Забавно, но второй по счету смахивал на Туза. Все собрались поглядеть и сравнивали, пытаясь отыскать различия. Если и были, то лишь в одежде. «Наш в голубом, а тот в гороховом, – заметил доброжелательный Леня Лелеков. – Хотя такой же кудрявый и рыжий – ну разрази меня гром! – точь-в-точь Бубей!»
Сходство неприятно поразило Туза. Он даже заподозрил злой умысел со стороны Филлипова. В тот же вечер взял Новый завет, чтобы разобраться, что к чему, и за ночь проработал четыре Евангелия.
«Один из вас предаст меня, – произнес Иисус за ужином и подал Иуде хлеб, смоченный в вине. – Что делаешь, делай скорее». Тот спохватился и быстренько вышел. Все решили, что за продуктами. Не дожидаясь его возвращения, Иисус поспешил в Гефсиманский сад. Он уже знал свою судьбу, но все-таки молился, чтобы миновала его чаша страданий. А вскоре в этот ночной сад Иуда привел целую толпу с палками и копьями. «Кого я поцелую, тот и есть, – сказал им. – Возьмите его и ведите осторожно». Затем подошел к Иисусу, обнял и облобызал, воскликнув: «Радуйся, Равви!» Когда подступили фарисеи и слуги первосвященников, апостол Петр выхватил меч и отсек одному ухо, намереваясь сражаться. Но Иисус утихомирил: «Как же иначе сбудется писание, что так должно быть? Вложи меч в ножны; неужели мне не пить чашу, которую дал мне Отец?» Его бы защитили, конечно, двенадцать Легионов Ангелов, но замысел-то был другой – показать, что смерть в этом мире побеждена. Страшна, как пугало, но, если подойти поближе, – огородное…