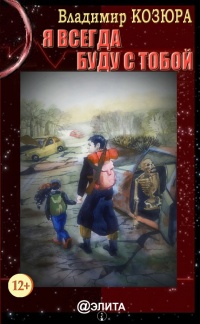Тихо заворчав, Грей переворачивает очередную страницу – она, будучи по-прежнему мокрой, рвется. И я, исполненная любви к руководству – и к моему отцу, несмотря на все, что я увидела и чего не могу понять, – разрываюсь вместе с ней.
Неважно, что пытается обнаружить Грей. Синие чернила потекли, их невозможно разобрать. Печатный шрифт и карандашные пометки уцелели, но чем больше рядом было чернил, тем меньше шанс прочитать текст. Например, вглядываться в страницу с «морзянкой» уже бесполезно – как и во многие главы. Хотя, возможно, где-то в середине книжки еще сохранились неповрежденные места…
Грею не хватает терпения их выискивать.
– Объясни мне, – низко рокочет он, – каким образом твоя дочь оказалась в компании капитана и в нашем штабе. Говори – или прощайся со своими привилегиями. – Мой отец отвечает на его свирепый взгляд выражением лица, которое я видела сотню раз: когда в разговоре чуточку перегибала палку.
– Прости, но я, пожалуй, рискну, – он не оправдывается, не защищается – вот отец, которого я помню. – Кроме того, ты не можешь лишить меня привилегий. Это не в твоей власти. А контракт не обязывает меня перед тобой отчитываться.
– Она – перед тобой, Уилл! – взрывается Грей, стискивая пальцы на моей руке (я ожидала вспышки ярости, но от боли у меня в глазах все равно вспыхивают искры). – В последнее время твои действия вызывают у меня сомнения, и я абсолютно вправе требовать объяснение!
Грей тянется к наушнику.
– Подкрепление, отдел «Овен». Нужна доза из лаборатории, – произносит он и вновь обращает свой гнев на моего отца. И на мою руку, которую продолжает сжимать. – Пелл придет с минуты на минуту, и когда он явится, ты докажешь свою верность программе, которую помог нам реализовать. Волки – превыше крови! Ты помнишь присягу?
Отец на долю секунды вглядывается мне в глаза, но сразу отводит взгляд. И мне становится ясно: он – прежний. Его доброта, тепло и сострадание никуда не делись. Однако он почему-то их скрывает.
Он меня защитит. Он отвечает уклончиво, наверное, он уже что-то задумал – он ведь ради семьи готов на что угодно. Я постоянно читала об этом на страничке с физиологией дыхания – те его слова, адресованные маме: «Я сделаю для тебя что угодно».
Грей утаскивает меня к дальней стене, где на двадцати-тридцати экранах транслируются изображения с камер видеонаблюдения, и нажимает ничем не примечательную кнопку на пульте управления. Зеленая стеклянная дверь отъезжает в сторону.
В комнату входит невысокий и тощий чернокожий мужчина в облегающих белых штанах и белой футболке – излюбленный наряд Лонана, только другого цвета. В руке у него полный шприц – пугающе знакомый, но жидкость не янтарная, а ярко-фиолетовая. Раскрыв вторую ладонь, мужчина опускает на стол крошечный серебристый контейнер, похожий на тот, в котором Эмма хранила контактные линзы.
– Итак, Овен, – произносит мужчина (Пелл… это сокращение от Пеллегрин?). – Сам хочешь или мне сделать?
Я искренне верю, что мой отец кивает и берет в руки шприц с контейнером исключительно ради моей безопасности. Что это – спектакль, разыгранный, дабы опасные предметы не оказались у тех, кто желает причинить мне боль.
Я верю отцу – всем сердцем.
Ровно до того момента, как он вкалывает мне в шею иглу. Фиолетовая жидкость исчезает под кожей, и я оседаю.
– Можешь мне доверять, – говорит мой отец.
Обращается он не ко мне.
67
Комната плавает в тумане. Меня переполняет странное тепло, словно по венам течет горячее масло, которым я обрабатывала волосы в седьмом классе. Место, куда вонзилась игла, поднывает. На столе, рядом с папиной кружкой, лежит смятое бумажное полотенце. Оно испачкано остатками фиолетовой жидкости, которую стерли с моей кожи. А еще – моей кровью.
Меня приводят к креслу, напоминающему о кабинете дантиста. Грей – наконец-то! – отпускает мою руку, и я сажусь. Обнаженная кожа липнет к мятно-зеленой обивке. Неподалеку, на подносе, лежат инструменты. На стоматологические они совершенно не похожи.
– Что происходит? – мямлю я. – Что вы со мной делаете?
Мои слова сливаются в неразборчивую кашу.
– Лучше посиди смирно, Иден, – отвечает мне кто-то.
Голос явно не принадлежит моему отцу.
Справа от меня появляется Пеллегрин. Пальцы у него мягкие, гладкие. Думаю, что, в отличие от Грея, он не будет причинять мне боль. Пеллегрин бережно устраивает мою руку на подлокотнике, аккуратно затягивает ремешки. Фиолетовый препарат настолько подавляет стремление сопротивляться, что я не понимаю, как вообще его ощущаю.
Пеллегрин берет с подноса контейнер с радужной жидкостью, снимает металлический колпачок. «Я – на карнавале, – мелькает у меня в голове. – Меня раскрасят, а потом я набью рот сахарной ватой».
Острый кончик кисти жалит хуже десятка тысяч ос.
Желание закричать тотчас утопает в густой фиолетовой завесе. Я этого не чувствую, но знаю, что плачу – отец заходит слева и с невероятной нежностью вытирает слезы с моих щек. Так, как будто не он помог их вызвать. Я зашла слишком далеко в поисках ответов, но не нашла ни ясности, ни возможности поставить точку.
У меня появились новые вопросы. О чем он только думает?..
Пеллегрин рисует быстро. Или я просто утратила ощущение времени, но это неважно. Он включает ультрафиолетовую лампу, и я вижу готовую работу.
Точно. Я теперь – ПсевдоВолк.
И поправляю себя: не Волк, я никогда им не стану. Просто навеки псевдо-я.
Изображение гипнотизирует блеском, иллюзией объема. Я глазею на него, но кто-то – снова Пеллегрин – вынуждает меня откинуть голову назад. Он раскрывает веки моего правого глаза. Я думаю, что он повторял процедуру обработки сотни раз, и эта мысль успокаивает и пугает. Глаза норовят закрыться, но Пеллегрин успевает надавить на зрачок, а затем проделывает то же самое с другим глазом.
Я моргаю.
Мир снова становится четким, даже четче, чем раньше. Как странно: ведь мое зрение прояснилось задолго до того, как меня усадили в кресло! Фиолетовая жидкость, конечно, его слегка затуманила, но сейчас я вижу все словно в оцифрованном виде, через какой-нибудь мощный фильтр.
Может, в меня внедрили новую форму шелк-технологий?
– Активируй ее, – приказывает Грей.
Отец без колебаний направляется к панели управления и поворачивается ко мне спиной.
– Когда он тебя активирует, ты забудешь про процедуру, – говорит мне Пеллегрин.
Неужели он решил меня утешить? Сперва они причинили мне боль, а теперь собираются стереть мою память.
Не могу представить мир, в котором боль от предательства отца не зияет в моей груди открытой, кровоточащей раной. Впрочем, Пеллегрин наверняка имеет в виду что-то иное.