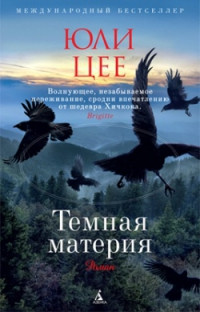Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 60
Он ощущал восторг и ужас этого переломного мгновения беспредельной, мучительной свободы, добытой разрывом всех связей и разупорядочиванием всех чувств. Доступ к новому можно было получить, только найдя силы превозмочь этот предел пределов. Предел, за которым, возможно, не будет уже ничего, даже кромешной тьмы. И чем большая опасность открывалась ему, тем легче было ее преодолеть, тем неистовей и азартней становилась его радость, тем легче было заставить отступать в сотни раз превосходившую его силу. И он обнаруживал следующий уровень ночи, уровень, на который он прежде не был способен подняться. Но он осознал, что с ночью невозможно слиться, во всяком случае, до тех пор, пока двигаешься по направлению к ней. В этом случае ночь начинала растерянно пятиться, оказываясь обреченной на вечное отступление, как тигр, способный напасть только со спины. Хотя возможно, отступала не ночь, а лишь ее преддверье, тогда как в саму ночь никто не мог быть принят. Но нет – если отступало преддверье, значит, можно было заставить пятиться и саму ночь – великую Ночь, скрывавшуюся за знакомой нам ночью. Оказывалось, что эта отверзшаяся пустота далека от совершенства, слишком уязвима, и потому никогда полностью не пустует, доказывая тем самым собственную невозможность. Тьма никогда не была до конца темной, а смерть – достаточно мертвой. Небытие оказалось обречено подмешиваться к бытию, втекать в него. Самостоятельно полость не способна была ничтожиться, и если это происходило, то означало лишь, что она никогда не была до конца пуста. Для этого пустоте и была необходима жизнь, из которой она бы смогла черпать свои силы и извлекать свою действенность. Преследование жизни было нужно ей для того, чтобы отрицать жизнь. Ведь конец жизни одновременно оказывался пределом пустоты, а отнюдь не ее торжеством. Начало этого круга было и его завершением. А теперь эта отступающая пустота расстилалась перед ним. Но ее бегство в действительности оказывалось движением ему навстречу. Отступая, она обнаруживала примесь жизни. Неужели она была лишь очередной личиной бытия? Ведь именно пустота позволяла продвигаться дальше, предоставляя место в пространстве. Пустота была тем, что оказывалось способно впустить (и выпустить?). И, утверждая пустоту, он обнаруживал в ней невозможность пустоты, одновременно испытывая ужас и восторг этой несбыточности. Он тонул в недвижимом океане белизны. Или черноты? Он перестал отличать их. Вернее, он осознал, что черный цвет ничем не отличался от белого, может быть, потому, что оба они были отсутствием всякого цвета. Доведенные до предела, противоположности поворачивались навстречу друг другу. Здесь ночь и день утрачивали различие, сливались, растворялись друг в друге, но без серых, сумеречных оттенков. Только белизна и темнота способны оказывать одинаково жуткий и завораживающий, колдовской эффект. Но отсутствие всего одновременно оказывалось фундаментальным присутствием, хранилищем беспредельных значений. Ему казалось, что любая случайная точка события могла вспыхнуть здесь как неистовый смысл, как яростная революция, прорывающая закономерно-неторопливый ход истории. Устремившись к самому дну отчаяния, он обнаружил бездну света. Молчание и пустота теперь становились таинственным (единственным?) хранилищем неродившихся звуков и движений. Простившийся с собственным телом выходил из темноты просветленным, прозрачным, омытым первородной чистотой, стиравшей противоречия и конфликты. Казалось, лабиринт вел к извечному истоку – к смерти. Но он находился в истоке того, что не имело истока. Он ощущал себя самого этим истоком, блуждающим истоком истока. Неизреченным, но грохочущим словом – последним, замыкающим конец времен, но одновременно стоящим в основе непроизнесенной речи. В безначальной темноте ничего нельзя было разобрать, но там уже что-то существовало, что-то таилось. Он был тем, через кого исчезновение заявляло о себе, через кого оно поддерживало связь с миром. Он творил новый мир с начала, без оглядки на историю и традицию. Он создавал то, что не могло быть создано. Ему нужна была вторая, абсолютная смерть, способная завершить весь бытийный круговорот. Он хотел приблизиться к тому, что появится на пепелище бытия и пустоты, что возникнет за пределом любых смешений и противоположностей, к тому, что не будет ни их разделением, ни их слиянием, к этой грандиозной, не поддающейся никакому осмыслению и даже обозначению неопределенности, к этой подлинной пустоте, свободной от всех условностей, заключающей в себе невыносимую муку и неописуемое счастье, до дикой боли, сжимающей сердце и наполняющей вены восторгом. Звон становился всё тише и тише. Его ослеплял беззвучный свет ледяной пыли. Тугой, крепкий снег хрустел под босыми ногами.
29
Елисей, конечно, не мог слышать скрипа оборванной штакетины, за которой спрятался Тихон. Мальчишка так соскучился по снегу, что, даже когда совсем стемнело, всё еще продолжал болтаться по дворам и улицам, пока не дошел до края деревни. Он плелся вдоль замерзшей реки по ту сторону изгороди. Проходя мимо пустыря, он, отодвинув болтавшуюся доску забора, оглядел заброшенную лужайку. Ему подумалось, что поляна, летом заросшая крапивой и лопухами, только зимой получала право называться пустырем. Теперь, когда лопухи завяли, и всю поросль примяло снегом, ничто больше не мешало игравшему с самим собой в перегонки ветру без конца носиться над землей от забора к пониклым домам. Вьюга засыпала пустырь костенеющей снежной крупой. Когда ветер на мгновение затихал, то тишину нарушало только это шелестящее шебуршание снегопада и холодный шорох инея. Тихон уже высунулся из-за доски, как вдруг сквозь метель разглядел чью-то фигуру. Признав Елисея, он спрятался назад и впопыхах оборвал рукав единственной зимней куртки, зацепившись о проклятый, не к месту вбитый, заржавелый гвоздь, торчавший из заборной доски. Но любопытство заставило его позабыть о разорванном рукаве, и сквозь щелку в заборе Тихон начал наблюдать за странным поведением бродяги. Он удивленно смотрел на то, как безумец топчется на месте, словно разучившись ходить, как не может сделать и шага в направлении изгороди, окружившей пустырь, и моста, перекинутого через реку. Каждый шаг давался ему с таким мучением, словно, делая его, он терял несколько лет жизни.
Продвигаясь по проторенному маршруту, бродяга, наверное, не осознавал, что река оледенела, и мост потерял всякий смысл, ведь выйти из деревни теперь можно было в любом месте. Или ему зачем-то нужно было в последний раз пройти по мосту? Или он направлялся вовсе не к мосту? Или он перепутал направление? Но зачем он пытался найти то, что никогда не терял? Зачем он двигался к тому месту, где и так уже находился? Почему существовало нечто, что требовало начать движение? Что создавалось благодаря этому пути? Создавалось ли что-нибудь? Могло ли что-либо созидаться? И как назвать это странное, лишенное предела путешествие – бесцельным путем или беспутной целью? Почему в поисках новой тропы он вновь и вновь натыкался на собственные следы? Почему пустыня оказывалась лабиринтом, мнимый выход из которого на самом деле был погрязанием внутри? Почему не умирала надежда выбраться? Почему ему хотелось заглянуть за горизонт? Почему к этому пределу можно приближаться вечно? И почему для каждого представление о пределе всегда было своим, не таким, как у другого, но, в конечном счете, между ними не было никакой разницы? И неужели, приблизившись к пределу и даже переступив через него, нам всё равно не дано его коснуться? Неужели не существует той минуты, когда мы подступим к нему вовремя – не слишком рано и не слишком поздно? Как узнать, что преодоление не оказалось иллюзией? Неужели мы не способны понять, переступили ли предел или только готовимся к этому? И почему мы думаем, что это может понять кто-то другой? Почему эта черта неприметна, почему она не занимает места в пространстве? Почему, подступившись к ней, мы всегда ее теряем? Почему нас не успокаивает вера в ее отсутствие? И почему мы не можем знать, существует она или нет?
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 60