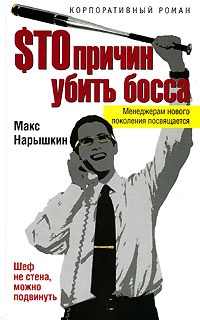Ознакомительная версия. Доступно 27 страниц из 134
В воздухе плыл дурманящий аромат пробудившейся степи, над нежными очерками холмов звонко кувыркались жаворонки. В какой форме явит себя неожиданное открытие, он не особенно задумывался. Его внимание привлекал и камень, чуть восстающий из сухой земли, и отколотая ручка сосуда, позеленевшие удила, жала стрел, наивная прелесть украшений. Часто ночами он забирался на вершину холма и, завороженный, следил за тем, как постепенно занимают свои места на черной опрокинутой чаше неба чистые звезды. Здесь, на границе великих равнин, у подножий Урала, было вольготно луне скользить в ночном пространстве, и солнце ходило широкой свободной дугой, не цепляясь за дома и не путаясь в кронах деревьев.
Возвращаясь после трех месяцев лета, проведенных как бы на пороге открытия, он, не мучаясь раскаянием, тащил домой свою смехотворную хламообразную добычу, перелагая свою надежду на следующее лето, и чем старше становился сам, тем крепче становилась и она.
К тому времени, когда он вернулся из армии, были открыты Аркаим и Синташтра. Галкин оглядел свои сокровища, о которых за два года забыл и думать, и почувствовал разочарование, а погремев ручками, свинченными им в неразумном детстве с дверей московских подъездов, испытал легкие уколы совести. Дивясь не столько своей глупости, сколько досадуя на потерю метода, он с задумчивой нежностью оглядывал предметы, в которых когда-то – еще не так давно – видел ингредиенты невиданного эликсира познания, надеясь сложить из них диковинную комбинацию, перед которой спасовал бы неприступный мировой замок. Но что были ему теперь черепки и осколки? Ему приходилось видеть и даже держать в руках знаменитые буры – винтовки Ли-Энфильда образца 1903 года, клинки эпохи Бабура, турецкие кремневки. Он видел, как в селениях, затерянных в трущобах Хиндураджа, каменные жернова свершают свою работу; заглядывал в лица, в чертах которых время вынесло из столетий память о македонянах, ушедших с Александром из Пеллы на поиски края ойкумены; слышал звуки напевов, которые старше Микен и Перы. Камни, как ими ни верти, оставались камнями, черепки – всего лишь осколками, лоскутами истрепанного халата жизни; новгородским ножиком одиннадцатого века можно было, конечно, очистить апельсин, но никаких скрытых свойств, превосходящих те, которые имели в виду его создатели, обнаружить в нем было мудрено.
Место камней, обладающих волшебной силой сокровенного знания, заняли теперь понятия и формулировки, и отныне поиск магического словосочетания, а еще лучше – просто слова – занимал его ум и душу. Даже закончив университет и защитив диссертацию, он оставался отчасти алхимиком. Это было чертой его характера, которую не могли превратить в галочку разума никакие доводы здравого смысла. «Наблюдение и изучение разумом начала и движения природы отдельных явлений нельзя считать бесполезным и лишенным удовольствия. Думать же и уверять себя, что можно постигнуть сущность вещей, было бы самоуверенностью и невежеством, вдвое превышающим незнание». Это предостережение, посланное Агафием из византийского хмурого утра, все еще кривило его лицо недоверчивой улыбкой несогласия. Он по-прежнему верил в то, что мироздание если и не познаваемо, то постижимо, но вынужден был повторять за Синесием: «Мир остается загадочным, назову я его Богом или нет».
Вспоминая минуты, проведенные под небом Страны Городов, венчающие своими остриями участки жизни и слившиеся сейчас в одно сплошное видение, он думал, что был тогда ближе к своему открытию, чем теперь. И еще думал о том, что целью времени, возможно, является не будущее, а прошлое.
* * *
Тимофею нравилось бывать дома у Галкина. Сколько он помнил это жилище, оно всегда имело вид не то склада, не то антикварного магазина. Комнаты две, но просторные, а также и кухня были захламлены до предела, в некоторых местах надо было пробираться боком, а в некоторых нога человека вообще не могла ступить, и там ступали только его четыре кошки, подобранные и пригретые им в разное время и при разных обстоятельствах. Как-то раз Галкин признался Тимофею, что когда был мальчишкой, слонялся по арбатским переулкам и свинчивал бронзовые ручки с дверей старинных особняков и с парадных многоквартирного модерна. Так, вероятно, и началась эта беспорядочная страсть к рухляди и любовь к кошкам, бродившим там же, где их почитатель. Эту предосудительную страницу своего детства Галкин объяснял недоверием к государству и был искренне убежден, что любая старина куда лучше сохранится в его тесной квартире, чем предоставленная самой себе и охранным грамотам культурных учреждений. Тимофей даже думал, что если бы это было возможно, Галкин разобрал бы по кирпичам все московские монастыри и складировал бы их до лучших времен, когда люди станут кошками.
Про некоторых людей говорят, что они живут не в своем времени. Сказать такое о Галкине было нельзя, потому что он жил во все времена сразу. «История – это большое уголовное дело, – говаривал он. – В том, конечно, случае, если судебником выступают заповеди Нагорной проповеди». Клочки этого «уголовного дела», собранные здесь вместе без какой бы то ни было системы, пребывали вечно в пыли, на которой можно было оставлять внятные, но недолговечные автографы. Некоторые из них имели в самом деле ценность, достойную почтения, другие, способные снискать его разве только своим почтенным возрастом, словно бы взывали: «Молю о погребении. Предай меня земле. Мое место на свалке», как пишут «помой меня» мальчишки на заляпанных грязью автомобилях. «Чудесная вещь! Превосходная вещь!» – приговаривал он, бросая взгляд на ту или иную принадлежность своего беспорядка, даже если это и был осколок плинфы, годный только на то, чтобы занимать место. С другой стороны, была особая прелесть в том, чтобы очистить апельсин новгородским ножиком одиннадцатого века или примерить карликовый, узкогрудый придворный мундир, смахивающий на предмет реквизита детского театра. «Старые вещи не любят одиночества», – пояснял Галкин, когда кто-нибудь из его гостей указывал на беспорядочный ворох бесценной рухляди, и тут же демонстрировал новые поступления: фрагменты кожаной обуви первых кантонистов или казенную бумагу, протравленную пернатым хищником и помеченную аккурат 1800 годом.
Самый же мелкий, но действительно необходимый хлам современного обихода он держал в немецкой каске времен Второй мировой. В каске, служившей вместилищем колец скотча, скрепок, истекших стержней, зажигалок, визитных карточек и прочего похожего барахла, зияла рваная осколочная рана, не оставлявшая сомнений в конце ее обладателя. Желая выудить понадобившийся предмет, Галкин запускал в каску руку, долго и безуспешно там рылся, пока, раздосадованный, не вываливал разномастное содержимое на подвернувшуюся поверность и, прежде чем сложить, а вернее, ссыпать все обратно, водил пальцем по краю отверстия и философски вздыхал.
– Любишь ли ты Матрену Ивановну? – первым делом спросил Тимофей и сунул руку в сумку.
– Какую еще Матрену? – недовольным голосом спросил Галкин. – Ивановну.
– А такую, нашу тетку родную, тетушку нашу ненаглядную, что всех нас веселит, приголубливает и спать укладывает.
Галкин в недоумении смотрел на Тимофея. Насладившись его растерянностью, Тимофей извлек из сумки бутылку виски.
– Так знай, – строго молвил он и со стуком установил квадратное донышко на столешницу. Галкин отрицательно покачал головой.
Ознакомительная версия. Доступно 27 страниц из 134