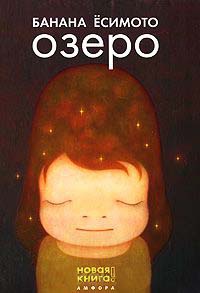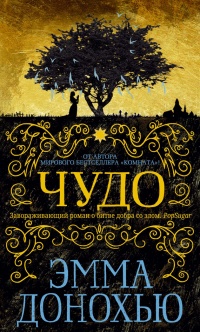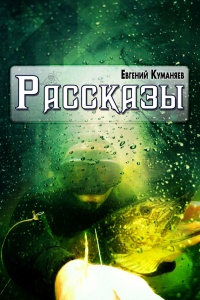Утомлённое солнце тихо с морем прощалось, В этот час ты призналась, что нет любви…
Елизар выпивал, закусывал, искоса поглядывая на танцующую пару, хотя… танцы уже обращались в похабные обжиманцы: Баяр, уткнувшись мутными очками в обильную грудь, – деваха оказалась на голову выше Баяра – теснил жертву к стене, где гарцевал на белом жеребце потомок Чингисхана, славный батор Сухэ. Слева от портрета желтела дверь в чулан, где ревсомольцы хранили знамена и портреты вождей для первомайских демонстраций. Елизар мрачнел; запоздалое раскаяние палило душу, словно за бутылку водки продал сестру в басурманский гарем. Брезгливо отодвинув чашку стылой баранины, зло плеснул в глотку полстакана сивухи и мысленно посулил: «Нет, раскосый и скуластый, не дам девку в обиду; не видать тебе русской девы как своих ушей…» И уж хотел было подняться из-за стола, но тут и деваха учуяла: палёным пахнет. Попросила ключ… монгол запер ревсомол… вроде, нужда прижала, и Баяр, уверенный, что покорил сердце русской девы богатыми напитками-наедками, тут же выдал ей ключ. Дева скользнула в дверь и, неожиданно заперев приятелей на ключ, вернулась часа через два, презрительно кинула ключ в отпахнутый ревсомол, где Баяр под хмельной хохот Елизара рвал и метал, проклиная русское коварство.
Певец пустыни Гоби, с досады хлопнувший стакан архи, привычно куражился: дескать, мы, монголы, полонили жалкую Рязань… то у него битва на Калке, то на Рязани… уложили русичей, на телеса их постелили доски и пировали, празднуя победу. Хотя и смешно было слушать похвальбу от вырожденца, глаза которого, словно конские шоры, укрывали толстые очки, хотя и бредил пьяный, но Елизара… худо-бедно единоверец, единокровец рязанских ратников… взбесил нахвальщина: «Врёшь ты всё, пёс поганый!.. Сроду русских шлемоносцев не стелили под столешню! А что смертным боем били русские богатыри вашего брата-арата, так это верно…» Подрались бы, словно на поле Куликовом, но монгол вовремя спохватился, замял ссору; смекнул, чай, не в пустыне Гоби, в Русской земле живёт, русские парни мигом рога обломают…
А на другой день после ревсомольской попойки приятели-писатели, заспав брань, мысленно порешив, кто старое помянет, тому – в глаз, бредили о модных в ту пору туманных мудрецах Ницше и Шопенгауэре, об изящных верлибрах[89] Поля Элюара, об экзистенциализме Альбера Камю, сюрреализме[90] Франца Кафки, о древнеяпонской лирике в стиле хокко и танка, об университетском барде Сокольникове, сочинившем в сей манере: «В Японии выпал снег, и розы постриглись в монахини…»
Вот и теперь, на берегу рукотворного моря, где гуляли студенты прохладной жизни, у светлого валуна, служившего столешней, монгол, вздыбившись, тут же утихомирился – шибко уж грозно глядел Елизар, словно вот-вот махнёт казачьей шашкой – и басурманская головушка с плеч долой, покатится в ивняк, заросший густой, сухой травой. Но… пьяный – худой… Баяр вскоре бросился на Арсалана:
– Бурят – от слова «буриха» – уклоняться. Монголы пошли на Русь, а эхириты, булагаты, хореиды повернулись спиной… уклонились от похода, струсили.
Глаза Арсалана – два бамбуковых лука с незримыми стрелами – хищно сузились:
– Чего ты мелешь?! Бурят… буряад… баряад – от слова «бар» – могучий, тигр…
– Ты тигр?!
– Я не тигр, я – лев: Арсалан – лев…
– Ты – лев?.. – Баяр всмотрелся в Арсалана – пышнотелый, малорослый, с неожиданно крупным, бледно-рыхлым лицом, похожим на маску Будды. – Ты?.. Лев? – Баяр засмеялся, потом захохотал, укрыв лицо руками, раскачиваясь на валёжине.
Сдуру засмеялись и приятели, оглядывая «льва», и Арсалан усмехнулся:
– Блеете, как бараны… А ты… далжа байhан ада шγдхэр… убуштэй буксэ[91]… – хлёстко выговорил Арсалан монголу по-бурятски, и пересмешник, толмача в бурятском наречии, мрачно затих.
– А есть хакасская версия: «пыраат», – сверкнул учёностью Елизар. – Под таким именем русским казакам стали известны монголоязычные племена, что жили к востоку от хакасов. А потом уж «пыраат» обратилось в русское «брат». И стали эхириты, булагаты, хонгодоры и хори величаться «буряад». А в русских летописях – братские люди.
– Ага, братья… – ядовито усмехнулся Баяр. – У русских – жиды, у монголов – буряты…
Не успел монгол домолвить ересь, как слетел с валёжины, словно пёс хвостом смахнул: над тихо шающим костерком мелькнули лакированные башмаки, и бедовая головушка угодила в ивняк. Парни оторопели, диву дались, как тихий и дебелый Арсалан, сидя супротив Тумэнбаяра, резко, незримо жогнул того в лоб. Парни вскочили, зашумели, вытянули бедолагу из кустов, где тот чудом нашарил очки. Арсалан взнялся, изготовился добавить, но меж соперниками встал бугаистый Тарас:
– Успокойся, Арсалан. Прижми хвост… Языком болтай, да рукам воли не давай. И, ты… Чингисхан… охолонись, сполосни лицо…
Когда вернулся мокроволосый и сникший Баяр, Тарас подвёл его к Арсалану и, силком сведя их ладони, властно велел:
– Миритесь!..
Елизар добавил ребячью присказку:
– Мирись, мирись и больше не дерись! А если будешь драться, то я буду кусаться.
– Говорят, в общаге два монгола-журналиста подрались, один другому ухо откусил, – вспомнил Ягор. – Говорят, с голоду…
– Говорят… – усмехнулся Тарас. – Говорят, москали кур доят…
– Давайте, мужики, выпьем чашу мировую, круговую! – Елизар лихо плеснул в ржавые чарки. – В любви и дружбе нам хама угэ[92], бурят ты или русский, еврей ты аль татарин. В любви несть ни эллина, ни иудея… За дружбу народов!