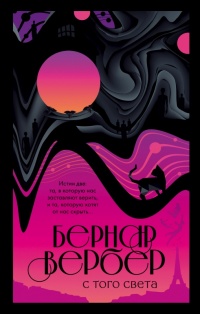Другой процесс привлек наше внимание из-за личности обвиняемой: Малу Герен, которая заставила своего любовника Натана усыпить с помощью хлороформа, убить и ограбить состоятельную даму с претензиями. Чтобы смягчить ее ответственность, мэтр Анри Торрес сослался на серьезный несчастный случай, который произошел два или три года назад, и контузию, полученную обвиняемой вследствие этого. Под элегантной шляпой, скрывавшей половину ее лица, Малу казалась красивой, и ее развязность рассердила присяжных. Говорили, что с любовником ее связывали гнусные пороки: мазохизм, садизм, копрофагия; судя по взглядам, которыми они обменивались, они действительно любили друг друга, и она упорно отказывалась отмежеваться от него. Присяжные Брюсселя осудили мужчину на двадцать лет каторжных работ, а женщину — на пятнадцать. Внезапно мэтр Торрес сорвал с нее шляпу, открыв потухший глаз, шишковатый лоб, изуродованный череп. Безусловно, ее ожидало бы более мягкое наказание, если бы она не скрывала своего уродства — последствие несчастного случая.
Обсуждая с Сартром преступления, судебные процессы, приговоры, я задавалась вопросом относительно смертной казни; отрицать ее принцип мне казалось делом отвлеченным, но то, как она применялась, я находила отвратительным. У нас случались долгие споры, я распалялась. Но в конце концов возмущение, уныние, надежды на более справедливое будущее, все это постепенно стало уходить в прошлое. Разумеется, у меня не сложилось бы впечатления, что я старею или топчусь на месте, если бы, вместо того чтобы замыкаться на своей привычной жизни, я с головой погрузилась бы в окружающий мир, ибо он пришел в движение. История отнюдь не мешкала, она устремлялась вперед. В марте 1935 года Гитлер восстановил обязательную военную службу, и всю Францию — и левых и правых — охватила паника. Договор, который она подписала с СССР, открыл новую эру: Сталин официально одобрял нашу политику национальной обороны; барьер, отделявший мелкую буржуазию от рабочих-социалистов и коммунистов, вдруг рухнул. Газеты всех направлений, ну или почти всех, в изобилии начали печатать доброжелательные репортажи о Москве и о могучей Красной армии. На окружных выборах коммунисты добились успеха, что способствовало сближению с ними двух других левых партий: их собрание в конце июня в Мютюалите заявило о создании Народного фронта. Благодаря этой мощной контратаке мир казался окончательно гарантированным. Гитлер страдал манией величия, он ввязывался в гонку вооружений, которая разорит Германию; зажатая между СССР и Францией, Германия не имела ни малейшего шанса выиграть войну; Гитлер это знал и не поддастся все-таки безумию бросить истощенную страну в безнадежную авантюру: во всяком случае, немецкий народ откажется за ним следовать.
Левые решили отпраздновать свою победу грандиозной демонстрацией. Некий комитет с небывалым размахом организовал празднества 14 июля. Я вместе с Сартром пошла к Бастилии: пятьсот тысяч человек с песнями и криками шагали, размахивая французскими национальными флагами. Кричали в основном: «Ля Рока на виселицу» и «Да здравствует Народный фронт!». До некоторой степени мы разделяли этот энтузиазм, но нам и в голову не приходило пойти в рядах демонстрантов, петь, скандировать вместе со всеми. Такова была в то время наша позиция: события могли вызывать у нас сильный гнев, страх, радость, но мы в них не участвовали, мы оставались зрителями.
«Вы видели Испанию, Италию, Центральную Европу, но Францию не знаете!» — упрекал нас Панье. Мы действительно не знали значительные ее территории. Поскольку в этом году у нас не было денег, чтобы поехать за границу, то мы решили изучить свою страну. Сначала Сартр отправился со своими родными в путешествие по Норвегии. Я же села утром в поезд с рюкзаком за спиной, в котором были сложены одежда, одеяло, будильник, путеводитель «Гид Блё» и набор географических карт Мишлен. Начав свой путь от Шэз-Дьё, я прошагала три недели. Я избегала дорог, срезая путь напрямик по лугам и лесам, не пропуская ни одной вершины, пожирая глазами панорамы, озера, водопады, потаенные прогалины и ложбины. Я ни о чем не думала: я шла и смотрела. Все свое добро я несла на спине, я не знала, где буду спать вечером, и первая звезда не препятствовала моему приключению. Мне нравилось наблюдать, как сворачивались венчики цветов с наступлением сумерек. Порой, шагая по гребню покинутого людьми холма, который и свет уже покидал, я ощущала прикосновение того неуловимого отсутствия, которое обычно единодушно скрывают все декорации; меня охватывала паника, подобно той, которую я испытала в четырнадцать лет в «ландшафтном парке», где больше не было Бога, и, как тогда, я бросалась навстречу человеческим голосам. В каком-нибудь ресторанчике я ела суп, пила красное вино. Зачастую мне не хотелось расставаться с небом, травой, деревьями, хотелось удержать по крайней мере их аромат, и, вместо того чтобы снять комнату в деревне, я преодолевала еще семь-восемь километров и просила пристанища на каком-нибудь хуторе: я спала в сарае и сквозь сон ощущала запах сена.
Ночь, оставившая у меня самые яркие воспоминания, — та, что я провела на Мезенке. Я собиралась переночевать в унылом поселке Этабль, у подножия горы; было еще светло, когда я там остановилась, мне сказали, что на вершине меньше, чем в двух часах хода, есть приют. Я купила хлеба, свечу, наполнила красным вином свою дорожную флягу и стала подниматься по цветущим пастбищам; спустились сумерки, потом стемнело. Было совсем темно, когда я толкнула дверь клетушки из серого галечника, мебель состояла из стола, скамьи и двух покатых досок. Я поставила на стол свечу, пожевала немного хлеба и для храбрости выпила все свое вино, поскольку это одиночество на высоте вселяло некоторую тревогу; между камнями стен дул сильный ветер. С рюкзаком вместо подушки и с доской вместо матраса, скрючившись под одеялом, не спасавшим меня от холода, я спала очень плохо; но и в отсутствие сна мне нравилось ощущать вокруг себя необъятную пустыню ночи: я была в ней затеряна, словно блуждала где-то на летательном аппарате. Проснулась я в шесть часов под ослепительным небом, купаясь в запахе травы и детства; от земли меня отделяло непроницаемое облако у моих ног: я была одна средь лазури. По-прежнему дул ветер, он пробирался под одеяло, в которое я пыталась закутаться. Я подождала; серая вата подо мной разорвалась, и в глубине этих расщелин я увидела лоскуты залитой солнцем равнины. Я бегом спустилась по склону, противоположному тому, которым поднималась. Какое солнце! Оно обжигало мне ноги, я имела неосторожность сунуть их голыми в полотняные туфли; я испытывала жуткие мучения и, добравшись до Сент-Агрева, вынуждена была задержаться там на сутки и отлеживаться. Когда я начала ходить, то с трудом держалась на ногах, а по комнате передвигалась ползком. Каждая остановка причиняла мне нестерпимую боль. В каком-то магазинчике я покупала провизию, и пока меня обслуживали, я не переставала ходить взад-вперед, словно зверь в клетке. Боль в конце концов успокоилась, и я двинулась в путь, надев носки.
Была еще одна ночь в нижнем Ардеше, где воздух был таким сладостным, что мне не захотелось запираться среди четырех стен. Я легла на мох в каштановой роще, положив под голову рюкзак, а в изголовье будильник, я проспала без просыпу до самого рассвета. Какая радость, открыв глаза, сразу увидеть синеву неба! Иногда, просыпаясь, я предчувствовала грозу, в листве деревьев я распознавала тот влажный запах, который предвещает дождь, в то время как в небе еще не ощущается никакой угрозы. Я ускоряла шаг, уже вся во власти надвигающейся на мирный пейзаж бури. Запахи, свет и тени, ураганы спокойными или мутными волнами распространялись по моим венам и мускулам, проникали в грудь; и мне казалось, что шум моей крови, движение моих клеток, всю эту тайну во мне — жизнь, я могу постичь в звоне цикад, в порывах ветра, сгибавших деревья, в шорохе мха у меня под ногами.