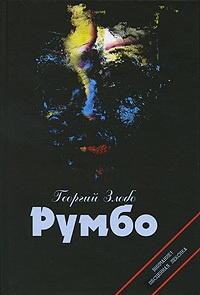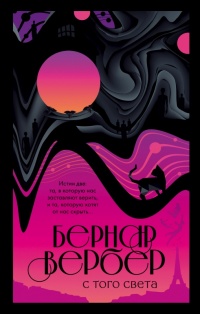Ознакомительная версия. Доступно 20 страниц из 100
Потом все было, как в тумане. Перестала быть собой, перевратилась в какую-то совсем другую женщину. И все время присматривалась сама к себе, как бы в стороне стояла. Голос звучал совсем по-другому. И так вышла на сцену и отыграла. Неужели это была еще я?
А когда вышли кланяться, пронеслось в голове: а вдруг Алешу вовсе не убили, вдруг он вернулся, никому ничего не написав, и вот сейчас, узнав о том, что я здесь, пришел и сидит где-то в последнем ряду, смотрит на меня, радуется, хлопает в ладоши. Заревела, а все подумали, что это я от счастья. А я и плакала от счастья. Но никак не могу это объяснить.
После представления Л. пришел за кулисы, Костров ему всех представил. Зоя Субботина стала делать реверанс и села на клавиши рояля! Все чуть не умерли от хохота! Мне Л. пожал руку и что-то шепнул на ухо. А я вся еще в гриме, оглушенная, ничего не понимаю — и не услышала, а переспрашивать постеснялась.
Л. остался ужинать с нами. Все от него в восторге. Он очень смешно рассказывал, как начинал карьеру в балетном училище — выступал задними лапами льва в балете «Дочь фараона». Ему нравится быть в центре внимания, и он умеет это делать. Подозвал Петю, племянника Кострова, и тут же достал у него из одного уха гривенник, а из другого конфету. У него так просто и легко получается дарить людям кругом улыбку, радость. Костров поднял тост за Л., а тот — за нас. Сказал: «Вы — это русский театр завтра!». Он смотрел весь вечер на меня! Наверно, мне так только показалось. Он совсем не похож на свои фотокарточки. Намного старее. Но в жизни он еще красивее. Высокий, статный. Он ходит с тросточкой из испанского камыша, рукоятка которой сделана из человеческой берцовой кости. Пошутил, что это — мощи того самого Йорика.
Теперь вот не могу спать: что он мне тогда мог шепнуть? А вдруг он сказал, что я замечательно играла и что у меня талант?
Алешенька! Я играла сегодня для тебя!
16 февраля 1916 г. Вторник.
Сегодня Леонид Михайлович читал перед ранеными в нашем лазарете. Увидел меня и, когда уже прощался, подошел запросто, как будто мы старые знакомые. Сказал, что у него еще два часа перед спектаклем, и он хотел бы прогуляться, подышать воздухом. Спросил, не откажусь ли я составить ему компанию. Не откажусь ли я? Боже мой! Отказать? Ему? Мы поехали в Коммерческий сад, там еще все завалено снегом, где-то расчищены дорожки, где-то протоптаны.
Рассказывал, как он придумал Станиславскому крылья в «Ганеле» Гауптмана — знаменитую сцену, когда появляется ангел смерти и расправляет крылья, которые заполняют собой всю сцену.
Еще говорил, что был у больного Чехова. У того рядом с кроватью лежало много приготовленных из бумаги колпачков. Он отплевывался в эти колпачки и бросал их в корзину.
Иду, слушаю, и в голове стучит: может, все это сон? Господи помилуй, кто гуляет со мной по нашему Коммерческому! Он одновременно и такой простой, и какой-то нездешний.
Потом вдруг стал говорить, что людей кругом много, а верного друга найти невозможно. Леонид Михайлович сказал: «Женатые живут всю жизнь собакой, а умирают барином, а холостой всю жизнь живет барином, а умирает собакой».
На прощание поцеловал руку. Когда снимал перчатки — так замечательно запахло! Хорошо еще, что я была в перчатках, а то бы он увидел мои обгрызанные пальцы. Каждый раз даю себе слово не грызть заусенцы, а потом забудусь и все пальцы перекусаю!
Пригласил меня на все оставшиеся спектакли. Он уезжает через неделю в Москву.
Он милый, хороший, добрый. И такой несчастный. Очень одинокий. Я это почувствовала.
17 февраля 1916 г. Среда.
Я его не узнала, когда он вышел на сцену! Как он преобразился! Это был не он, а сам Бранд! Так передать глубину чувств человека, готового пожертвовать личным счастьем, единственным сыном, горячо любимой женой! И не ради отечества на поле боя, а ради чего-то неизмеримо более важного! И как он гениально сыграл концовку — одинокий, покинутый, поруганный! Но не побежденный! Неужели действительно есть что-то такое, ради чего можно пожертвовать всем — даже любовью?
После спектакля я дождалась его на выходе. Там была целая толпа! Он увидел меня, помахал рукой, я протолкалась, и он позвал с актерами ужинать. Пошли в «Бельвуар» на Садовой, там был снят большой кабинет. Как было хорошо и весело! Гоголев и Варинская дурачились и никому слова не давали сказать. Леонид Михайлович выглядел очень усталым и почти все время молчал. Гоголев рассказывал про оживление мертвых! Не знаю, правда все это или выдумал, чтобы посмешить. Оказывается, раньше пробовали оживлять гальванизмом. Какой-то ученый по фамилии Биша во время французской революции проводил эксперименты с трупами казненных на гильотине и написал целый научный трактат о том, что, благодаря гальванизму, ему удавалось вызвать движение мышц в обезглавленных телах. А сам Гальвани, который изобрел гальванизм, выступал в анатомических театрах Лондона и Оксфорда с публичными опытами — электризовал труп, так что голова открывала глаза и шевелила языком. Такие вот разговоры на ночь глядя! Кто-то стал уверять, что все это детский лепет и что современная медицина идет вперед такими шагами, что в скором времени она сможет продлить жизнь человека практически до бесконечности. Варинская ужаснулась: «Целую вечность жить старухой!» Все хохотали! А Леонид Михайлович сидел молча на диване, и я присела рядом с ним и спросила: «А что вы думаете?». «А я думаю, что Скрябин умер из-за фурункула, и что заражением крови его наградили в парикмахерской, и он ничего не успел, что хотел сделать». «И что, теперь не надо ходить стричься в парикмахерскую?» «Нет, надо быстрее делать то, что хочешь».
А что я хочу успеть? Я хочу выступать на сцене и любить.
Мама недовольна, что я каждый день возвращаюсь так поздно. Ворчит, что утром меня не добудишься. Дело вовсе не в гимназии. Ей просто не нравится моя дружба с актерами!
18 февраля 1916 г. Четверг.
Сегодня после обеда опять гуляли с Леонидом Михайловичем. С ним очень интересно разговаривать. Он очень умный и так много читает! Столько всего знает!
Очень интересно говорил о времени и об искусстве. Время — это что-то вроде машинки уничтожения. «Настольная гильотинка, если хотите. Что-то вроде хлеборезки. Каждой секунде отрезают голову. Только появится — вжик! Дело художника — остановить руку того, кто крутит эту машинку. Положить свою руку на его».
Все время говорил о смерти и бессмертии. Сказал, что очень много читает древних авторов, греков. Сейчас читает Ксенофонта. Я сказала, что пыталась его читать, но ужасно скучно, бесконечные переходы, парасанги, все друг друга убивают. Спросила, что он нашел там интересного. «Вы правы. Эти люди неинтересны. Наемники пришли в чужую страну убивать и сменить одного тирана на другого, а потом всю книгу идут к морю, чтобы отправиться домой. В этом нет ничего ни красивого, ни благородного. Но дело же не в них. Они не лучше и не хуже наших сегодняшних солдат, которые стреляют сейчас в кого-то, в эту самую минуту». «Не в них, а в ком же?» «В авторе, Ксенофонте. Представьте себе, сколько людей прошмыгнуло (так и сказал — прошмыгнуло, какое неприятное слово!), а эти греки остались, потому что он их записал. И вот они уже третье тысячелетие каждый раз, увидев то море, к которому он их вел, бросаются обнимать друг друга и кричать: Таласса! Таласса! Потому что он привел их к совершенно особому морю. Таласса — это море бессмертия».
Ознакомительная версия. Доступно 20 страниц из 100