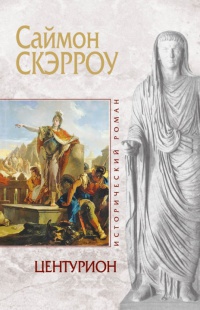«В Танаисе пойман грифон. В Киммерии появился кентавр. Там же убито существо, похожее на химеру. Все это, без всякого сомнения, бывшие гении».
I
К утру все же Трион заснул.
Сон был так отчётлив, что не походил на сон. Трион был собой и одновременно не собой. Кем-то другим. Он шагал по пыльной степной дороге, и раскалённые доспехи жгли плечи. Шлем висел у него на груди, как у простого легионера. За спиной слышался монотонный топот тысяч и тысяч ног: его легионы шагали следом. Но когда он оборачивался, то видел, как в бескрайней степи ветер колеблет серые стебли сухой травы. Чёрные стервятники висели в выцветшем небе, высматривая добычу. И никого вокруг.
Трион отирал со лба пот и шёл дальше. И вновь за спиной, нарастая, возникал чёткий гул марширующих ног. Сотен, тысяч ног. Но тотчас пропадал, едва Трион оборачивался…
Сон кончился внезапно. Просто оборвался – и все. Как лента обрывается на сеансе в кино. Трион открыл глаза. Вокруг была ночь. До рассвета – вечность. Он был весь в поту. Его бросало то в жар, то в холод. Он потрогал лоб, надеясь, что его мучает обычная лихорадка и безумному бреду так легко найти объяснение. Но лоб был холодным и липким. Однако его лихорадило. Он был болен. И не знал – чем. Прежде он никогда не мучился от душевных переживаний. Единственное, что его могло потревожить, – это подозрение, что другие могут оказаться догадливее, чем он. Но сейчас было что-то другое.
Трион лежал, вперив взгляд в потолок, ничего там не находя. Ноги ныли, руки дрожали. Он слышал все время отдалённый рокот марширующих легионов. И видел серую степь и висящих в вышине стервятников.
Трион неожиданно вновь заснул. Теперь он был не один – перед ним стоял легионер в старинной пластинчатой лорике и размахивал мечом. Меч сверкал. Ослепительно, как может сверкать только смертоносная сталь. За спиной легионера маячили другие, они обступили Триона и что-то орали. Что-то противное, мерзкое. Он был для них добычей, затравленной, жалкой добычей. Вновь и вновь выкрикивали одно и то же слово. Он силился разобрать его, уяснить смысл, но не мог.
И вдруг меч в руках легионера зашипел змеёй, рассекая воздух, и снёс Триону голову. Глаза Триона ещё видели, мир вращался и кружился, опрокинутый, далёкий, равнодушный, а потом что-то ударило его в щеку, и глаза увидели забрызганные грязью солдатские калиги, и ноздри сохранившей жизнь головы вдохнули запах пота и навоза…
Трион вновь проснулся, сел на кровати и отёр совершенно мокрое лицо ладонью.
Неужели он сходит с ума? Или это влияние радиации? Нет, нет, он просто устал. Когда закончит работу, отправится отдохнуть – куда-нибудь на море, полежать на горячем песке, поплескаться в заливе, где на десятиметровой глубине видны лежащие на дне камешки. Чингисхан должен подарить ему виллу и часть залива…
Наверняка вечером съел что-нибудь не то. Кормят тут фекально. Потому и в животе постоянно урчит, и эти боли… Ну вот опять… Трион едва успел добежать до латрины и усесться на стульчак. Первым делом в садах Хорезм-шаха Трион велел построить настоящие латрины – местные «удобства» его не устраивали. Несколько минут он корчился на стульчаке и даже кричал, когда спазмы кишечника вызывали острую боль. К тому же из заднего прохода почему-то лилась жидкость. Брезгливо сморщившись, Трион отмотал ком бумаги, подтёрся, хотел выбросить, но перед тем посмотрел на бумагу. Она была вся в крови. Триону стало нехорошо. То ли от вида крови, то ли от странного предчувствия…
Он сполоснул руки и поспешно покинул латрины. Последние дни его немного лихорадило… а теперь эта кровь… Неужели он болен? Неужели… Надо поскорее закончить нового «толстяка»…
II
– Ты видел те кусты в саду? – спросил Угей.
– Кусты? – переспросил Минуций. Он сидел на траве и что-то чиркал на лежащем перед ним листе бумаги. И вдруг взъярился, вскочил. – Ты сбил меня с мысли! Ты! Вдруг эта мысль больше мне не придёт в голову?!
– Кусты пожелтели, – сказал Угей невозмутимо, будто и не слышал воплей александрийца. – Они умирают. И рыбки в пруду тоже умерли.
У молодого монгола была медная кожа и чёрные тонкие усики, которые он постоянно теребил. Поверх синего чекменя Угей обычно носил римский броненагрудник. Но сегодня он не надел броненагрудник. Хотя на поясе у него, как всегда, висел «брут». Говорят, лучшего стрелка, чем Угей, среди охранников нет.
– Да плевать мне на кусты и на рыб – ты сбил меня с мысли!
– Так нельзя, – покачал головой монгол. – Все эдзены[40]погибнут или станут страшные и злые. И будут мстить. Все семьдесят семь слоёв Этуген[41]погибнут, – невозмутимо продолжал говорить Угей, глядя на Минуция узкими чёрными глазами.
– Что ты бормочешь?
– Нельзя убивать Этуген. Где будут пастись кони? И бараны умрут, если съедят эту траву.