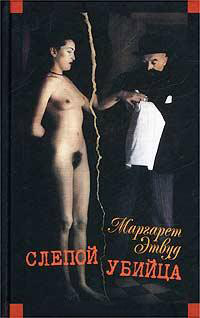Я в холодильник их положил…
Мы поем эти и другие переделки популярных песен, которые кажутся нам очень остроумными. Мы бежим и скользим в резиновых сапогах с подвернутым верхом, лепим снежки и кидаемся в фонарные столбы, пожарные гидранты, даже в проезжающие машины и – настолько близко, насколько смелости хватает – в прохожих на тротуаре, это в основном женщины, которые выгуливают собак или идут с сумками из магазина. Чтобы скатать снежок, надо положить учебники на землю. Мы бросаем не метко и почти всегда промахиваемся. Только один раз мы по ошибке попадаем в женщину в меховой шубе, со спины. Она оборачивается и сердито смотрит на нас, и мы убегаем – за угол, на боковую улицу, – так хохоча от ужаса и неловкости, что едва держимся на ногах. Корделия бросается навзничь на заснеженный газон.
– Дурной глаз! – взвизгивает она.
Мне почему-то неприятно смотреть, как она лежит в снегу, раскинув руки.
– Вставай, – говорю я. – Схватишь воспаление легких.
– И? – отвечает Корделия, но встает.
Зажигаются фонари, хотя еще не темно. Мы доходим до того места, где на другой стороне дороги начинается кладбище.
– Помнишь Грейс Смиитт? – спрашивает Корделия.
Я отвечаю «да». Я в самом деле ее помню, но нечетко, с пробелами. Я помню, какая она была, когда мы только познакомились, и потом – в яблоневом саду, в венке из цветов; и еще потом, гораздо позже, когда она была в восьмом классе и готовилась уйти в другую школу. Я даже не знаю, в какую школу она перешла. Я помню ее веснушки, ее улыбочку, ее жесткие косы, словно из конского волоса.
– Они экономили туалетную бумагу, – говорит Корделия. – Четыре квадратика на раз, даже если идешь по-большому. Ты знала?
– Нет, – отвечаю я. Но мне кажется, что когда-то я и впрямь об этом знала.
– А помнишь черное мыло, которым они пользовались? Помнишь? Оно пахло гудроном.
До меня доходит, что мы сейчас делаем: мы высмеиваем семью Смииттов. Корделия помнит про них много всего: серое белье, капающее с веревки в подвале, овощной нож, сточенный до узкой полоски, зимние пальто из итоновского каталога. Согласно Корделии, одежду следует покупать в универмаге «Симпсона». Туда мы теперь ездим в субботу утром, с непокрытой головой, трясясь в трамвае, идущем в центр, одну остановку за другой. А выписывать товары по итоновскому каталогу – еще хуже, чем отовариваться в универмаге Итона.
– Семейство Бух-Бух! – вопит Корделия в воздух, пронизанный снежными хлопьями. Это жестоко и вместе с тем метко; мы фыркаем от смеха. – Что ест на ужин семейство Бух-Бух? Жилы от мяса!
Игра идет полным ходом. Какого цвета у них нижнее белье? Цвета рубероида. Почему у миссис Бух-Бух на лице пластырь? Она порезалась, когда брилась. Можно сказать о них, выдумать про них все, что угодно. Они беззащитны, они в нашей власти. Мы представляем себе, как муж и жена Бух-Бух занимаются любовью, но это уже слишком, невообразимо, тошнотворно. Тошнотворно – это новое словечко, мы его подцепили от Утры.
– Что делает Грейс Бух-Бух для развлечения? Выдавливает прыщи! – Корделия так хохочет, что складывается пополам и чуть не падает. – Хватит, хватит, я сейчас описаюсь!
Она говорит, что прыщи у Грейс появились в восьмом классе; а теперь их должно быть еще больше. Это не выдумка, а правда. Мы смакуем мысль о прыщах Грейс.
Смиитты в нашей версии – полностью лишенные обаяния, скупые, тяжелые, как сырое тесто, скучные, как белый маргарин, который они, по нашим словам, едят на десерт. Мы высмеиваем их набожность, их мелочную экономию, размеры их ног, их фикус, в котором они отразились целиком. Мы говорим о них в настоящем времени, будто все еще с ними знакомы.
Игра дарит мне глубокое наслаждение. Я не могу объяснить подобную жестокость со своей стороны; не спрашиваю себя, отчего эта игра мне так приятна или зачем Корделия ее затеяла, почему настаивает, чтобы мы в нее играли, взбадривает ее снова, когда игра начинает сходить на нет. Корделия косится на меня, словно оценивая, как далеко – насколько дальше – я могу зайти в этом, как мы обе понимаем, низком предательстве. Я еще раз мельком представляю себе Грейс – она исчезает в дверях своего дома, на ней юбка с лямками и свитер в катышках. Мы все ее обожали. Но теперь – нет. И в нынешней версии, версии Корделии, этого никогда и не было.
Мы бежим по улице под снегом, открываем калитку кованого железа в ограде кладбища и входим. Мы здесь первый раз.
Этот конец кладбища еще не совсем освоен. Здешние деревья – пока лишь саженцы; без листьев они кажутся еще более временными. Земля в основном нетронута, но кое-где на ней шрамы вроде следов гигантских когтей, ямы, что-то раскопано. Надгробных камней мало, и они новые: продолговатые блоки гранита, отполированные до пресвитерианского блеска, буквы сугубо утилитарные, без каких-либо попыток их приукрасить. Они напоминают мне мужские плащи.
Мы идем среди этих надгробий, показывая, какие из них – самые серые, самые нелепые – могло бы выбрать семейство Бух-Бух, чтобы похоронить кого-то из своих. Отсюда через сетку-рабицу забора видны дома на другой стороне улицы. В одном из них живет Грейс Смиитт. Мне странна и необъяснимо приятна мысль о том, что Грейс, может быть, сейчас дома, в обычной на вид кирпичной коробке с белыми столбиками крыльца, и понятия не имеет, что мы о ней говорим. Миссис Смиитт, возможно, тоже дома – лежит на бархатном диване, накрывшись пледом; я помню, что у нее было такое обыкновение. Фикус стоит на лестничной площадке, он не сильно вырос. Фикусы растут очень медленно. А вот мы выросли, и дом кажется нам меньше.
Впереди простирается кладбище – многие акры кладбища. Овраг у нас сейчас слева, там виднеется краешком новый бетонный мост. Я мельком припоминаю старый мост и ручей под ним; наверно, сейчас прямо у нас под ногами растворяются мертвецы, превращаются в воду, холодную и прозрачную, и текут под гору. Но я тут же об этом забываю. Я говорю себе, что на кладбище нет никаких ужасов. Оно для этого чересчур практично, чересчур безобразно, чересчур аккуратно. Оно похоже на кухонную полку, куда убирают всё подряд.