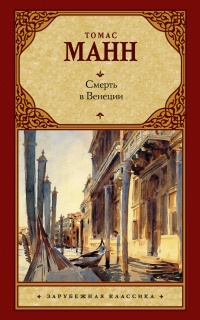На таком фоне возможность переехать наконец в собственный дом, что произошло на исходе осени, при всей неприязни, которую вызывало это бесприметное сооружение вкупе со всеми остальными, такими же новыми постройками, воспринималась как возвращение к покою и порядку.
При этом все равно основное время, проведенное у друзей, связывается в памяти с важным образом, являя собою пример такой совместной жизни, которая по характеру внутренней связи представляется гораздо более воздушной, здоровой и гораздо менее вредной для духа, нежели совместная жизнь, ограниченная пределами небольшой семьи. Подобные взаимоотношения вполне допускают дерзкие взлеты одиночества, без которых разум лишается насущного простора, но зато исключают неизбежно следующие затем падения в бездну покинутости и нереальности, где уже нет ни постижимых вещей, ни слов. Страх за ребенка тоже утрачивает силу, поскольку твой ребенок, еще недавно приближавшийся пугающе близко и бывший всем и вся, теперь находился на правильном расстоянии и представал как «один из прочих». Да и сам младенец перестает ограничиваться родителями, этими всевластными стражами, препятствующими выходу на свободу: чем шире круг, тем меньше кажутся включенные в него фигуры, и каждый, кто бы он ни был и каким бы рассеянным или неловким он ни казался, может походя стать на время партнером по игре. – Вот почему и получается, что те месяцы в целом были все же окрашены естественной легкостью, в них была равновесность будней и праздников, сосредоточенного труда и раскованного отдыха, формообразующей вольной погруженности в себя и неформальной обращенности к другим – равновесность дней и вечеров как таковых, которую взрослый никогда уже не сможет предоставить своему ребенку, разве только во время коротких поездок к морю.
* * *
Темный день ноября, когда в еле натопленном новом здании наконец можно было зажечь первый домашний светильник. Память не сохранила ни одной картины, связанной с чувством переезда в это жилище, во-первых, потому, что дом долгое время оставался недоделанным, а во-вторых, и это главное, потому, что за ним не стояло принятие важного решения, какое, наверное, в былые времена предшествовало дому, отчего вся нынешняя затея выглядела как обыкновенное приобретение, – так приобретают, наверное, какой-нибудь полезный хозяйственный предмет, не задумываясь, по случаю. Кроме того, мужчина почти не участвовал в его сооружении, как некогда ему пришлось волей-неволей участвовать в строительстве родительского дома, которому было отдано столько сил, что все то время, занятое строительством, сохранилось в памяти в виде множества живых картин. Здесь же первым мероприятием стало приглашение на собрание местной партии, где новых граждан ввели в курс дела, рассказав им о проекте скоростной дороги, которая будет проходить у самого их поселка, о хронической нехватке воды в здешних местах и отсутствии поблизости школ, после чего последовало несколько утешительных ободряющих фраз и собрание было закрыто. При всем при этом на обратном пути мужчина преисполнился загадочного доверия к миру, возвращаясь тем поздним зимним вечером – как никогда – к «себе домой» и в «наш поселок». Снежный воздух той станции метро, на которой он стоял два года тому назад после осмотра очередной квартиры, – этот воздух был снова тут, и действительно, следом за ним появились снежинки, мягкие касания в темноте, кружение на поворотах переулков, гудящий рой над лесом; он безотчетно сворачивает в сторону и делает круг, по ходу которого вся местность, все эти плоскокрышие кубики на фоне леса благодаря усилиям снежной ночи впервые обретают лицо, а новостроечные улочки уходят в открытое, таинственное, исконное пространство.
В конце зимы, через несколько месяцев после переезда, женщина покинула дом, чтобы снова положить начало своей профессиональной деятельности; это было повторением попытки, предпринятой много лет тому назад и только сейчас, похоже, осуществившейся. Уход соответствовал положению вещей и не был формальным расставанием; после первого долгого отсутствия она часто возвращалась к ребенку, и отнюдь не как гостья; однако факт оставался фактом, мужчина жил теперь с ребенком один. И снова раздвоение: он считал ее вправе поступать подобным образом и одновременно осуждал ее. Как может человек, пусть даже ради врожденной склонности, уйти от своего ребенка? Разве обязательство, именуемое «ребенок», не является самым естественным, очевидным и убедительным на свете, тем, что не должно в принципе вызывать никаких вопросов? И разве не является любое, самое расчудесное достижение, купленное ценой отрицания очевидных вещей, отрицания единственной к чему-то еще обязывающей действительности, – разве не является такое достижение изначально недостойным, нечестным и потому не имеющим силы? – При этом он, конечно, понимал, что сам, ввиду особенностей его деятельности, находится в выгодном положении: ему не нужно разлучаться с домом, как большинству людей, так что пребывание в одной сфере при идеальных условиях давало импульс к моментальному перемещению в противоположную сферу.
Вот почему в это первое время, когда он остался один с ребенком, для него было таким счастьем продолжать изо дня в день начатую до того работу. Едва миновал час прощания, совпавший с дневным сном ребенка, как взрослого уже потянуло укрыться поскорее, почти по-воровски, в своем начатом творении, и первая же найденная связка, от которой можно было двигаться дальше, возвестила собою триумфальную победу над ходом событий во внешнем мире (и это «дальше!» того дня стало для него впоследствии его тайным лозунгом).
Однако вскоре по завершении работы, которая время от времени все же вовлекала в ограниченные стенами пределы комнаты приметы «извне», «воздух свободы», дом с ребенком обернулся еще худшей замкнутостью и неподвижностью, чем прежде. Вместе с этим пришло и ощущение покинутости, воплощенное в образе другого – в образе ребенка, который играет сам по себе: один в помещении, в котором кроме него находится стоящий столбом мужчина, – от одного только факта этой макушки, этих покатых плеч, этих голых пяток на созерцающего веет такой горестной потерянностью, какая присутствует в подлинных высоких трагедиях судьбы, – хотя сам ребенок (в чем можно было потом убедиться) не ощущал никакой разницы между «прежде» и «теперь»; он уже давно привык к тому, что его опекает только один из родителей, и вывел для себя позднее основное правило: «Главное, чтобы кто-нибудь из вас был рядом».
В эти недели растерянности невозможно было себе помыслить никакого будущего, но и желания вернуться в прошлое тоже не было. Постепенно пришло осознание, что все произошедшее – необратимо, и потому мужчина проводил время с ребенком не так, как прежде, когда казалось, будто это временный период. Он по-прежнему вел счет времени, но только теперь исчислял его по-новому, не допуская даже мысли о том, чтобы позвонить кому-нибудь постороннему и попросить о помощи. Ибо не подлежало никакому сомнению: теперь требовался только он, причем лично, собственной персоной, что означало невозможность, как обычно, просто создавать видимость участия в общем деле и при этом пребывать в безмятежной самопогруженности, как «перед войной» (так почему-то подумалось ему однажды). Да, ход внутренних событий, – свободное течение снов наяву, – был окончательно и бесповоротно нарушен: нарушен наступлением того самого крайнего случая, который он прежде, в условиях ленивого мира, воспринимал порою как стимул начать наконец, с полным присутствием духа, разумную, трезвую, подобающую жизнь. И пусть этот крайний случай был неприметным и ничтожным, общий посыл сохранялся: взрослый не намерен был покорно мириться с создавшимся положением, он хотел добиться согласия с ним. И его новое времяисчисление, не предполагающее наличия конца, было скромным символом пусть небольшой, но все-таки победы; новый способ исчисления служил ему порой хорошим подспорьем, помогая жить дальше: «Считать и жить».