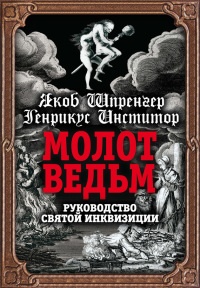Екатерина Петровна судорожно опять порылась в карманах модного черного балахона, но выудилась и блеснула вновь только золотая кредитка.
– У тебя деньги есть? – страшным шепотом спросила она у спутника. Сидоров оглядел свое портмоне снаружи и внутри.
– Будем брать, – сухо сообщил он.
– Хорошему клиенту, – крикнул Парфен, состроив довольную рожу, – даем по обслуживанию услугу вперед, под честность залога совести. – А чего возьмете? – осторожно поинтересовался хозяин, разглядывая дорогую обувку гостьи. – Не запачкались, на машине подкатили?
– Берем так, – строго отчеканил обозреватель, глядя на отвернувшуюся и странно дергающуюся ученицу. – Берем по рюмке настойки с полной тарелью, – графинчик помой, – огурцы-помидоры… капуста кислая есть?
– А как же без энтой, не жизнь, – возмутился хозяин и собрался броситься в сени к кадушке, но гость остановил его жестом.
– Будем подышать над подполом и спуститься с несколькими выдохами. И фанерку приоткроешь!
– Какую фанерку, – испуганно переспросил хитрец – Разве кто говорил?
– Ну давай, обустраивай, – велел гость. – Баньку пока не надо.
– Будем сделано, – выкрикнул хозяин. – С вас причтется четыре тыщи рублев комплет. Аванс с порядочных городских не беру. Мои полотенцы чистые, колодезная и ведро речной для мойки рук и чего хотите.
– Три, – жестко сторговался журналист.
– Ну чего ж! По рукам-по ногам, – радостно завопил Парфен и бросился смахивать с круглой древней столешницы рукавом телогреи мусор.
Через полчаса были пододвинуты к столешнице колченогие табуреты, вывалена в миску горячая вареная картошка, источающая божественный аромат настоящего навоза, в блюде с отгрызенным боком ломко засветились радугой куски деревенской копченой свиньи, и огурцы и сморщенные помидоры расселись в миске в оторочке клюквенной и яблочной капусты. Голодные гости поглядели на снедь волками и синхронно сглотнули. Парфен вымыл колодезной стопки и бока графина, снаружи запятнанного сотней отпечатков, мечтой дактилоскописта, тихо спросил:
– Дышать до или опосле приема напитков станете?
– Посередке, – уточнил журналист.
– Вот это самое и оно, – проникновенно задрал глаза кверху, на неструганный потолок, хозяин. – Скажу слово, с вашего созволения. Я простой деревенский человек, Парфен. Чего мене выпало – не знаю, не ведаю. Видать, сверху меня рассмотрели и пометили. Открылся во мне лаз в волшебную божью благодать. Лечебный, наскрось через душу нашу бредет. Лечит от всего: чирья, расстройство головы и брюха, чесотка в каком месте. Пришествие рака может взять, ежели легулярно. Такая у ей сила. Дыханьем дышит, колдобит, но забирает человека своим духом навсегда. Одним словом – чую я: ход в рай. В который, кто ты ни будь – не заказано. А у меня здеся, поверху, что ли – как хотишь, умные головы зря не квакнут, – перешел хозяин на громкий шепот, – здеся очистилище. Ну глотнем, с богом.
Гости хлебнули крепкого, наверное, горючего самогона и бросились тыкать вилками овощную горку.
– Откуда ж вы сами-то прибыли, с каких краев? – поинтересовался Парфен, поглядывая на графин. – Не сумлевайтесь, стоял пузатый три дня в подполе, набирал силы загробной жисти. Стоит три дня и ночи в адском холоду, а пониже нужного градуса не стынет. Чудо! Так откудо-ва путь? И как вы прозываетесь, коли познакомимся.
– Я – Катя, – протянула практикантка Парфену узкую ладонь с розовым дорогим маникюром. Тот дернулся и осторожно поднес к ладони лохань с хлебом. Катя взяла кусок черного. – А это Леша. Он сосед вашей Дуни, журналист из газеты. Дуня просила Вас навестить и передать привет.
Сухонький старичок неосторожно покачнулся, слетел со своего сломленного годами табурета и бочком еле удержался за цыганскую шаль на топчане.
– А чего ж вы? – тихо просопел. – Чего ж… Сказали бы. Сразу. А я вижу, родные люди. От моей Дуни. Это я ее просил… чтоб газета могет… Чего-то… Жарко.
Он скинул телогрею, оставшись в огромной ему, древней фланелевой рубахе в полоску. Потом, шатаясь, ушел в темный угол, что-то повертел, и это оказался патефон, потому что скрипнула и запела вдруг пластинка негромко и душевно, голосом древней Вяльцевой. Вернулся и сел, налил в рюмки, уже не экономя, по полной.
– Я у моей Дуни, – сказал он, а потом, чуть не заплакав, прикрыл покоробленной ладонью глаза, – я у ней один остался. Один ее жду и один поминаю. Нет, – вдруг встрепенулся, – были и до ней у меня девки… и опосля. Но теперь все, одну ее уважаю и привечаю. Заколдовала, бешеная баба! Хочу другую перед глазами вывести, вон, Таньку-фельдшерицу при Хруще-царе или дальнюю соседку Марюкину Авдотью при Брежневом. Даже с солдатской неволи страдаю представить венгерскую цыганку страшную Зару при коротком царе-мученике, забыл… А то последнюю… давно уже… мать этого… Ну, Веньки, теперь хлопца с башкой. Не могу! Не лезут боле в мою голову никакие эти бабы – кругом я Дуняшей моей обложен. Закрою глаза и вижу: васильки, кашка розовая кустится, пчелки норовят в рожу клюнуть, наверху облаки мчатся, лозунги небесные – а понизу мы с Дуняшей об руку бредем, и травинкой она мне на лбу крестик рисует. В те славные времена окрестился-то. Вон и вляпался в энтую страсть-любовь господню. Зови как хошь. Не собещает следущей весной до меня идти, сам на рождество приду. Все! И если прогонит, уберусь в рай, в этот лаз окаенный. Нету мне без нее ходу, – и произнесший сии слова хлопнул, облившись, полные полстакана.
– Кушайте, господа хорошие близкие люди, – продолжил тихо. – Меня строго не слушайте, – пошел, сменил сторону пластинки. – А то, что газету вашу, Алексей не знаю по батюшке, хотел попользовать для наживной рекламы своей забытой жизни, то это – да. Хотел. Теперь сами прутся, молва-то бежит шибче чумы. И деньги навроде, всегда на стакан, и в город за харчем, и… А что от ихних денег? Уезжать и бродить перекати-полем по чужим углам – старый. Тут мне назначена гавань, возле этого дышащего хода. Дуня бы вот только пришла: соберемся в ночь, затопим печку трескучей розовой жаркой березой, да посидим, сверчка послушаем и упомним наши молодые дни: речки перезвон, пескарей стоячих на перекате, малинник в дальнем лесу. Эх… что говорить! Кушайте, кушайте, господа, я чего – счас подрежу жратвины-то. Ну-ка, и нальем по махонькой.
Скоро старичок Парфен немного осоловел, но подвел их к подполу с толстым кольцом, сунул фонарь и велел:
– Идите-ка сами, только сторожко. Свои вы, чего мне соваться. Сверзюсь еще, и привет рай. А я пяток минут на полати боком полежу, – и отвалил из малого закутка обратно в горницу.
– И что? – спросил спутницу обозреватель. – Лезем.
– Я первая, – сообщила женщина, дыхнув спиртовым пламенем.
– Ну уж! – покачал странной головой журналист. И схватил кольцо.
* * *
Тяжелый деревянный параллелепипед крышки погреба поддался, выкрутился на петлях наружу и лег на плохо струганный и замазанный абы как краской пол. Снизу, из дыры, куда вела шаткая непологая лесенка, потянуло сухим холодом, осенним дубовым листом, весенней первой вербой, надкусанными яблоками мельбы и еще неизвестным духом – будто скрытный, но опытный парфюмер решился в один флакон, или корыто, поместить не терпящие друг друга ароматы: медленно истлевающего лука, сухой, уставшей лежать на солнцепеке дыни, какого-то на детском празднике лишь раз пробованного пирога.