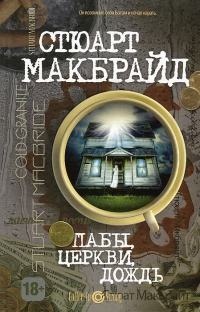песню. Тут она не сомневалась. Глядя, как медленно удаляется его спина, она увидела свое будущее и его – и знала, что еще будет себя казнить, если хотя бы не попытается открыть конверт и прочесть вести, что ждут в письме. Сколько раз она уже так делала – глотала гордость ради машины, дома, брака, школы для детей, ради матери, церкви? И ради чего? «А как же мое сердце, Господи? Сколько мне осталось лет?»
Он был на углу церкви, когда она окликнула:
– Возвращайся, когда у тебя будут еще новости.
Он остановился. Не обернулся, а ответил через плечо:
– Новости будут только плохие.
Сестра Го видела его профиль – и он был прекрасен, в обрамлении статуи Свободы и гавани, и чайки парили над его головой и вдали. А раз он не выказал нежелания возвращаться, ее сердце вновь отрастило крылышки.
– Даже если плохие, – сказала она, – будет и хотя бы одна хорошая – их принесешь ты.
Она видела, как его плечи слегка расслабились. Он прислонился к стене и дал сердцу успокоиться. Он боялся, что если сейчас обернется, то выражение лица все выдаст и он причинит им обоим больше неприятностей, чем стоило. Но к тому же впервые за свои пятьдесят девять лет, несмотря на все прочитанные стихи и чудесные ирландские сказки, которые отлетали у него от зубов, даже если разбудить посреди ночи, – сказки, полные лирики, рифм, надежды, смеха, радости и боли, завернутых, будто рождественские подарки, – он внезапно, необъяснимо не мог найти слов, чтобы выразить все чувства.
– Буду рад, – сказал он больше в землю, чем ей, – вернуться и принести те новости, какие смогу.
– Я буду ждать, – сказала сестра Го.
Но с тем же успехом она могла говорить и с ветром. Он скользнул за угол к своей машине и пропал.
16. Пусть Господь хранит тебя…
Через девять дней после праздника в честь возвращения Супа Лопеса и через две недели после выстрела в лицо Димсу Пиджак, все еще вполне себе живой, прибыл спозаранку на работу в особняк итальянки. Пришел трудиться в саду. Все своим чередом, среда как среда.
Она его дожидалась и, когда он показался, торопливо вышла за калитку навстречу. Поверх халата она набросила мужскую куртку, на талии все еще был завязан фартук, а на ногах были великоватые мужские рабочие ботинки.
– Дьякон, – сказала она, – надо найти фитолакку.
– Зачем? Она ж ядовитая.
– Вовсе нет.
– Ну тогда ладно, – сказал он.
Они отправились по кварталу к пустырям, тянувшимся по направлению к гавани. Она маршировала впереди, он шел позади. На первом заросшем пустыре в двух кварталах от дома она забрела в сорняки, он – следом. Оба искали, опустив головы. Прошли несколько славных образчиков.
– Это колючещетинник, репей, кассия, – сказал Пиджак, – но никакой фитолакки.
– Найдется, – сказала миссис Элефанти. Она шла через бурьян в нескольких метрах перед ним, разводя травы руками. – Мой доктор меня возненавидит, если я найду целую охапку. Ему никакой работы не останется.
– Да уж, мэм, – хихикнул Пиджак. Этим утром он чувствовал себя прекрасно. На самом деле он чувствовал себя прекрасно каждое утро, когда бродил по пустырям Коза в поисках растений с дамочкой, чье имя так и не мог запомнить. Единственная работа, для которой не требовалось предварительно накатить. С тех пор как умерла Хетти, ему, как правило, требовалось взбодриться с утра. Но в среду, работая у дамочки, он каждый раз получал заряд бодрости. Она была на восемнадцать лет старше – говорила, ей под восемьдесят девять, – но все равно предпочитала весь день проводить на улице, что было редкостью для пожилых людей в Козе. Уже четыре месяца знакомы – а он так и не смог запомнить ее имя, но она все же казалась хорошей белой, а это уже много значит. С именами у него всегда было плохо, особенно в подпитии. Многих он звал «эй, брат» или «мэм», и они просто отвечали. Но у нее после четырех месяцев он уже стеснялся снова спрашивать имя, так что повадился звать ее мисс Четыре Пирога, на что она не возражала, – сей факт бесконечно развеселил Сосиску, когда Пиджак об этом рассказал.
– У нее что, настоящего имени нет? – спросил Сосиска.
– Конечно, есть. Дамочка из центра для престарелых, которая порекомендовала меня на эту работу, даже как-то раз мне ее имя записывала. Но я потерял бумажку.
– А чего еще раз не спросишь?
– Да ей все едино, как я ее зову! – объявил Пиджак. – Ей даже нравится, когда я ее зову мисс Четыре Пирога!
– Откуда ты имя-то такое взял?
– Сосиска, в первый день, как я пришел на работу, у нее в духовке стояли четыре черничных пирога. Весь дом пропах черникой, – сказал Пиджак. – Я сказал: «Ей-богу, мисс, как же у вас хорошо пахнет». Тогда-то она мне и представилась.
– И ты совсем не помнишь?
– А какая разница? Она платит наличкой, не чеком. – Он недолго размышлял. – Уверен, что имя у нее итальянское. Какое-то «Или-а-ти» или «Элла-ран-ти», или еще что. – Он поскреб в затылке. – В первый день еще помнил, но, когда я вернулся домой, осушил бутылочку и забыл. Вот оно из головы и вылетело.
– Так она его тебе дала в тот первый день? – спросил Сосиска.
– Имя? У меня свое есть.
– Да нет. Пирог! Сам же сказал, их было четыре.
– А ястреб летает? Еще бы не дала! – объявил Пиджак. – Мисс Четыре Пирога шутки не шутит! Знает, что в травах я спец. Она человек хороший, Сосиска. – Он недолго подумал. – Если так прикинуть, по-хорошему звать ее полагается мисс Три Пирога, а не Четыре, раз у нее осталось только три, когда я в тот первый день уходил. Она сама вычла целый пирог для старика Пиджака. – Он рассмеялся. – Да я вообще не промах, Сосиска! Люди меня обожают. Она по мне с ума сходит.
– Небось, потому что у тебя зубов больше, чем у нее.
– Завидуй молча, сынок. Она дамочка что надо. Железная выдержка, как говорится. Что там, будь она цветной да колченогой, я бы сводил ее к Силки и купил чекушку бренди с самой верхней полки.
– Зачем ей быть колченогой?
– Есть же у меня своя планка.
Сосиска смеялся, но Пиджаку стало стыдно за свою шутку, вдруг показавшуюся безвкусной.
– Дело в том, Сосиска, – сказал он серьезно, – что я скучаю по своей Хетти. А она не пощадит, как услышит от меня такое мракобесие, а то и вовсе больше не появится. У меня тогда не будет мочи жить, – и чтобы загладить оскорбление, добавил: – Мисс Четыре Пирога за словом в карман не лезет.