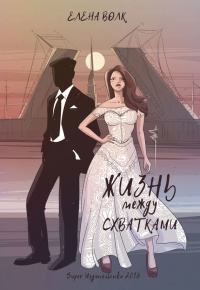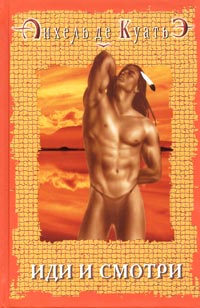мечтает распуститься цветком на заре.
Доброй ночи.
Яркое солнце сквозь ветви сосен
Пустынное озеро.
Здравствуй.
Дикие гуси
Храм скрытого аромата.
Как дела?
Крошечное сердце
бесконечные размышления.
Разумеется, Чу Та жестоко ревновали и ненавидели все банальные или неудавшиеся художники его времени. Нередко приходилось слышать, как его называли старым дураком, а злословие придворных дам в его адрес было просто чудовищным. Это вовсе не мешало более или менее просвещенным чиновникам раздобывать себе втихомолку его композиции. Да и сегодня художники, получающие государственные субсидии, вели бы себя точно так же. Что касается их долгов, лучше промолчим.
Я вновь вижу нас, себя и Франсуа, в мрачные годы, в залах музея Гиме[17]в Париже. Мы приходили туда не как в музей, мы не собирались, подобно туристам, созерцать все эти неживые предметы. Нет, это был обмен энергией напрямую, который должен был немедленно оказать влияние на весь наш образ жизни и поведение. Благодаря этому уроку веков предстояло не больше, не меньше, как открыть Париж. Вазы, котлы, шпаги, колокола, тарелки, драконы, броши, колье, браслеты… Снаружи, на улицах, все было враждебным, кроме наших встреч и наших приключений. И мы отправлялись к этому зеленому — глубокому и прозрачному, этому синему и белому, этим надписям на кости и панцирях черепах. Черепаха выходит из реки, на ее спине буквенная вязь, но змея тут же набрасывается на нее. В залах мы были одни. Молчали. Старинные книги были раскрыты перед нами, каллиграфия была изобретена только для нас, красные печати указывали нам наше место. Все было сегодня. Но однажды должен был разразиться настоящий фейерверк, цирк всех чертей с тысячами акробатов, новые герои, Ли, Ю, Сун, Ванг, Чан, идущая в течение нескольких часов опера «Беседка в пионах». В один прекрасный день миллионы китайцев, изящных, порочных, легких, выйдут из стены. И мы отправимся туда, то есть сюда.
Это было как раз начало, обещание. Старый Париж тоже требовал справедливости, его набережные, его история, его Средние Века, его Фронда, его глубоко запрятанные Просветители. Все выйдет из забвения и станет напряженно свидетельствовать. Заговорят камни, плафоны, паркеты, кресла, диваны, гобелены, шкафы, столы. Я знал это благодаря Доре, а Франсуа — благодаря собственному гению. Он мог продекламировать наизусть десятки стихов Верлена, но именно Лотреамон и Рембо указывали путь в ночи. Известие об этом порыве ветра, об этой немыслимой эксгумации исходило от этой бронзы, здесь, прямо перед нашими жадными глазами. От этого копья, этого кинжала, этого щита, уже кому-то послуживших. Да, мы были бедны и растерянны, но решительно плевали на это, мы чувствовали в себе самих величественный восход. День великого логического обращения придет, да, придет, осторожно, тихо, на цыпочках. Мы шагали по крышам нового счастливого мира.
Свет в пустынных залах. Возвращение назад, в свинцовые, серые дни.
«Я не знал иной милости, чем сам факт рождения. Какому-нибудь беспристрастному уму этого вполне достаточно».
Ван Вэй, поэт начала восьмого века, изъясняется приблизительно так:
Самая высокая вершина, врата Небесной Цитадели,
Простирается уступами до самого моря.
Если долго смотреть на белые облака, они сходятся,
Если проникнуть внутрь зеленых лучей, они исчезают.
Но вот мирная хижина одинокого отшельника в самом сердце Нью-Йорка. Мы видим ее словно парящую в воздухе, чуть выступающую за край, слева, в картине «Последнее уединение». Остальной пейзаж почти неразличим. Просвещенный комментатор прав, когда утверждает: «Без всякого сомнения, „ташистский“ гений Чу Та ведет себя здесь с королевской непринужденностью. Окружающий мир стирается, уходит в отставку, сжимается до нескольких путаных линий». Чуть дальше крошечный силуэт человека, погруженного в размышления, с запрокинутым вверх лицом, сидящего на краю пустоты. Горы огромны и непреодолимы, но словно приподняты, словно чем-то впитаны и поглощены. Мы внутри, мы снаружи, мы не внутри и не снаружи, материя плотная и ноздреватая, ее величина известна, как и малейшие закоулки и тайники. Было только это? Эта плотность, эта тяжесть, это беспорядочное нагромождение атомов? Ладно, проскальзываем быстро, на спине ослика, словно в зеркале. «Одинокий путник» говорит это очень ясно, послушайте его профиль и сероватые тона. Он проплывает по облупившейся стене, этот беглец, после него хоть потоп, он спешит покинуть империю теней. Он всего лишь скользит в этой долине, никто не ждет его и не рассчитывает на него. Он свободен. Он только что сбежал. И это единственный совет, который может он дать.
Все озарять? Давать без счета?
Так это пятьдесят пятая гексаграмма, Фын, «Изобилие».
Вверху возбуждение, гром. Внизу сцепление, огонь.
Идеограмма изображает груженый зерном корабль или рог изобилия.
Комментарий: нужно давать волю своим чувствам, быть безудержным, обильным. Нужно быть, как полуденное солнце, которое освещает все вокруг и изгоняет земные тени. Почему бы и нет?
Выхожу из «Метрополитена», беру такси по направлению к Гудзону. Нью-Йорк — это город, который не перестает изменяться, шевелиться. Я не могу найти места, где можно было бы лечь, растянувшись на деревянном плоту посреди реки. Тем хуже, огромная масса воды здесь, блестит холодным синим цветом. Около часа хожу по набережным, потом иду вверх, по направлению к Доре.
Она спит в самолете рядом со мной, часто ее волосы попадают мне в рот, и это очень приятно. Семь часов полета — и вот Париж, парк, ванна, маленькие размеры. У Доры назначена встреча, она уходит. Я отправляюсь в библиотеку. Не зажигаю света. Жду.
Я думаю о тех, кто, подобно мне, давно уже порвали с тайной, подпольной жизнью, о тех мужчинах и женщинах, чье существование напоминает настоящий роман. Маскировка, сдержанность, стремительность, множество документов на разные случаи… Беру с полки старого Сирано в обложке из слоновой кости, вот он уже под красной лампой: «Луна была полной, небо затянуто…» Закрываю том, ставлю его на место.
Тайная жизнь, да, но почему? Прятать нечего, но многое нужно защищать. Дора, Клара, Франсуа или другие. Нужно красть время, час здесь, час там, порой даже четверть часа, тридцать секунд, пять минут. Предаваться размышлениям можно в туалете, на лестнице, во дворе. Вдруг, безо всякой причины, остановиться между двумя зданиями. Медленно спуститься на третий подземный уровень автостоянки. Смотреть на крыши, окна, силуэты людей. Чувствовать, до какой степени ты здесь напрасно, ни для чего. После сна выпить залпом три стакана воды. Встать очень рано, будь что будет. Воздерживаться от сексуальных отношений, или наоборот. Молчать или говорить слишком много. Вытянуться неподвижно или бежать. Остановиться в первом попавшемся отеле, послушать шум, уехать. Вести машину наугад, никуда, вдоль берега. Принимать самые нелепые приглашения, получать удовольствие оттого, что кто-то другой взял тебя в оборот. Вдруг исчезнуть на три месяца или год (как сейчас Франсуа, в Китае). Всем заявить, что отправляешься в путешествие и остаться дома. Жаловаться, когда все идет прекрасно (это доставляет всем такое удовольствие), но ни в коем случае не делать этого, когда тебе действительно плохо (это доставило бы им слишком большое удовольствие). Сбить со следа Лежанов, как бы их на самом деле ни звали, Нежан или Дажан. Останавливать действие приказов Центрального Бюро Леймарше-Финансье, или, по крайней мере, переводить их в разряд невыполнимых (Дора). Без остановки практиковаться, напуская на себя праздный вид (Клара). Выигрывать, терять и снова выигрывать, терять, выигрывать. Лгать, говоря правду. Плавать, спать. Безо всякой причины быть настороже, двигаться безо всякой цели. Быть очень серьезным, очень легкомысленным. До конца расслабиться. Пустить все на самотек.