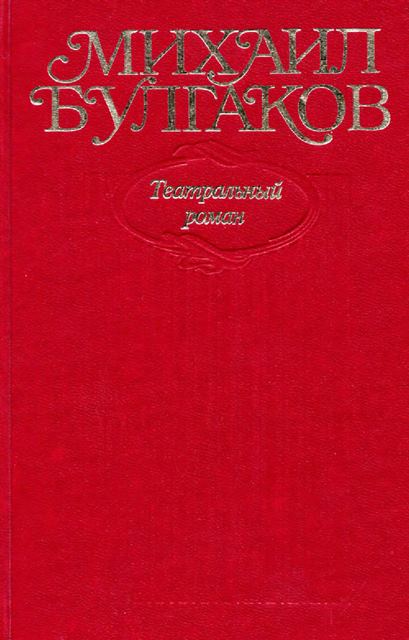Афанасьевна, не зная еще, в чем дело, заплакала в ту же секунду. Юрий Леонидович и Колька растерялись до того, что даже побледнели. Колька опомнился первый и полетел в кабинет за валерьянкой, а Юрий Леонидович сказал, прочистив горло, неизвестно к чему:
— Да, каналья этот Петлюра.
Бакалейников же поднял искаженное плачем лицо и, всхлипывая, выкрикнул:
— Бандиты... Но я... я... интеллигентская мразь! — и тоже неизвестно к чему...
И распространился запах эфира. Колька дрожащими руками начал отсчитывать капли в рюмку.
Через час город спал. Спал доктор Бакалейников. Молчали улица, заколоченные подъезды, закрытые ворота. И не было ни одного человека на улицах. И даль молчала. Из-за реки, от Слободки с желтыми потревоженными огнями, от моста с бледной цепью фонарей не долетало ни звука. И сгинула черная лента, пересекшая город, в мраке на другой стороне. Небо висело — бархатный полог с алмазными брызгами, чудом склеившаяся Венера над Слободкой опять играла, чуть красноватая, и лежала белая перевязь — путь серебряный, млечный.
«Накануне» (литературное приложение). 10 декабря 1922 г.
№ 13. Дом Эльпит-Рабкоммуна
Так было. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась ста семьюдесятью окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана. И зеленоликая, немая, обнаженная, с кувшином на плече, все лето гляделась томно в кругло-бездонное зеркало. Зимой же снежный венец ложился на взбитые каменные волосы. На гигантском гладком полукруге у подъездов ежевечерне клокотали и содрогались машины, на кончиках оглоблей лихачей сияли фонарики-сударики. Ах, до чего был известный дом. Шикарный дом Эльпит...
Однажды, например, в десять вечера, стосильная машина, грянув веселый мажорный сигнал, стала у первого парадного. Два сыщика, словно тени, выскочили из земли и метнулись в тень, а один прошмыгнул в черные ворота, а там по скользким ступеням в дворницкий подвал. Открылась дверца лакированной каретки, и, закутанный в шубу, высадился дорогой гость.
В квартире № 3 генерала от кавалерии де-Баррейн он до трех гостил.
До трех, припав к подножию серой кариатиды, истомленный волчьей жизнью, бодрствовал шпион. Другой до трех на полутемном марше лестницы курил, слушая приглушенный коврами то звон Венгерской рапсодии, capriccioso, — то цыганские буйные взрывы:
Сегодня пьем! Завтра пьем!
Пьем мы всю неде-е-лю — эх!
Раз... еще раз...
До трех сидел третий на ситцево-лоскутной дряни в конуре старшего дворника. И конусы резкого белого света до трех горели на полукруге. И из этажа в этаж по невидимому телефону бежал шепчущий горделивый слух: Распутин здесь. Распутин. Смуглый обладатель сейфа, торговец живым товаром, Борис Самойлович Христи, гениальнейший из всех московских управляющих, после ночи у де-Баррейн стал как будто еще загадочнее, еще надменнее.
Искры стальной гордости появились у него в черных глазах, и на квартиры жестоко набавили.
А в № 2 Христи, да что Христи... Сам Эльпит снимал, в бурю ли, в снег ли, каракулевую шапку, сталкиваясь с выходящей из зеркальной каретки женщиной в шиншилях. И улыбался. Счета женщины гасил человек столь вознесенный, что у него не было фамилии. Подписывался именем с хитрым росчерком. Да что говорить. Был дом... Большие люди — большая жизнь.
В зимние вечера, когда бес, прикинувшись вьюгой, кувыркался и выл под железными желобами крыш, проворные дворники гнали перед собой щитами сугробы, до асфальта расчищали двор. Четыре лифта ходили беззвучно вверх и вниз. Утром и вечером, словно по волшебству, серые гармонии труб во всех 75 квартирах наливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы... В недрах квартир белые ванны, в важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов... Ковры... В кабинетах беззвучно-торжественно. Массивные кожаные кресла. И до самых верхних площадок жили крупные массивные люди. Директор банка, умница, государственный человек с лицом Сен-Бри из «Гугенотов», лишь чуть испорченным какими-то странноватыми, не то больными, не то уголовными глазами, фабрикант (афинские ночи со съемками при магнии), золотистые выкормленные женщины, всемирный феноменальный бас-солист, еще генерал, еще... И мелочь: присяжные поверенные в визитках, доктора по абортам...
Большое было время...
И ничего не стало. Sic transit gloria mundi![9]
Страшно жить, когда падают царства. И самая память стала угасать. Да было ли это, господи?.. Генерал от кавалерии!.. Слово какое!
Да... А вещи остались. Вывезти никому не дали.
Эльпит сам ушел в чем был.
Вот тогда у ворот, рядом с фонарем (огненный «№ 13»), прилипла белая таблица и странная надпись на ней: «Рабкоммуна». Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд. Пианино умолкли, но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гостиных протянулись веревки, а на них сырое белье. Примусы шипели по-змеиному, и днем, и ночью плыл по лестницам щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерне мрак. В нем спотыкались тени с узлом и тоскливо вскрикивали:
— Мань, а Ма-ань! Где ж ты? Черт те возьми!
В квартире 50 в двух комнатах вытопили паркет. Лифты... Да, впрочем, что тут рассказывать...
Но было чудо: Эльпит-Рабкоммуну топили.
Дело в том, что в полуподвальной квартире, в двух комнатах, остался... Христи.
Те три человека, которым досталась львиная доля эльпитовских ковров и которые вывесили на двери де-Баррейна в бельэтаже лоскуток: «Правление», поняли, что без Христи дом Рабкоммуны не простоит и месяца. Рассыплется. И матово-черного дельца в фуражке с лакированным козырьком оставили за зелеными занавесками в полуподвале. Чудовищное соединение: с одной стороны, шумное, заскорузлое правление, с другой — «смотритель»! Это Христи-то! Но это было прочнейшее в мире соединение. Христи был именно тот человек, который не менее правления желал, чтобы Рабкоммуна стояла бы невредимо мышастой громадой, а не упала бы в прах.
И вот Христи не только не обидели, но положили ему жалованье. Ну, правда, ничтожное. Около 1/10 того, что платил ему Эльпит, без всяких признаков жизни сидящий в двух комнатушках на другом конце Москвы.
— Черт с ними, с унитазами, черт с проводами! — страстно говорил Эльпит, сжимая кулаки. — Но лишь бы топить. Сохранить главное. Борис Самойлович, сберегите мне дом, пока все это кончится, и я сумею вас отблагодарить! Что? Верьте мне!
Христи верил, кивал стриженой седеющей головой и уезжал после доклада хмурый и озабоченный. Подъезжая, видел в воротах правление и закрывал глаза от ненависти, бледнел. Но это только миг. А потом улыбался. Он умел терпеть.
А главное — топить. И вот добывали ордера, нефть возили. Трубы нагревались. 12 градусов, 12 градусов!