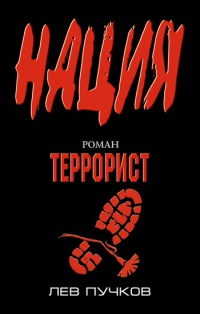– Ну да, с любимым профессором. И если ты не хочешь меня туда везти, чтобы не встречаться с…
– …с Джеффом.
– Так вот, если ты не хочешь снова увидеть Джеффа, то мне необходимо попасть к тебе домой и взять свою машину.
Она резко поднялась.
– Я совсем не хочу встречаться с Джеффом.
– Хорошо, – согласился я.
Мы вошли в дом и представились двум сотрудникам судебно-медицинской экспертизы, заодно напомнив о тех чрезвычайных мерах предосторожности, которые они должны предпринять. Один из этих ребят, толстый белый парень с бритой головой, попытался выудить из нас информацию – подробности об инфекции. Я ответил, что по воздуху она, судя по всему, не летает, и если соблюдать все необходимые правила, то можно и не волноваться. Парадоксальные рекомендации. Я чувствовал себя как президент, который советует своему народу проявлять крайнюю бдительность, но в то же самое время жить обычной, нормальной жизнью. Ну и времена настали…
Проходя по коридору, я услышал доносящийся из гостиной плач. Времени оставалось в обрез, но все же мы должны были поговорить и с другими пациентами пансионата, и с персоналом. Выяснить, знают ли они Дугласа, попытаться понять, не общались ли с ним близко…
– Нат, прояви немного человечности, – попросила Брук. – Подожди хотя бы до завтра.
– Завтра у меня уже самолет, – не сдавался я.
– Соверши безумный поступок, – бросила она, направляясь к выходу, – перенеси отъезд.
42
Оказавшись дома у Брук, я по факсу отправил детективу Уокер фотографию Дугласа Бьюкенена. А потом сел в машину и отправился на север, на встречу со старой наставницей, старым университетом и, вполне возможно, с целой волной неприятных воспоминаний. Честно говоря, я уже много раз прокручивал в голове собственное возвращение, причем фантазия всегда услужливо создавала самые высокопарные сценарии – или получение почетной докторской степени, или выступление на каком-то торжестве. Но я и понятия не имел, какие именно чувства вызовет это возвращение в моей собственной душе.
Я свернул с главного шоссе на Юниверсити-авеню, ведущую в городок, который представлял собой воплощение технологических излишеств 1990-х годов. И хотя бум, судя по всему, уже миновал, здесь этого, кажется, и не заметили. Дорога была забита, причем шеренга состояла исключительно из дорогих немецких и японских автомобилей и внедорожников. Именно здесь в счастливые времена жил Кен Кизи. Интересно, что бы он сказал по поводу сияющей вереницы «БМВ», припаркованных у бутиков и ресторанов, предлагающих салаты по двенадцать долларов? Скорее всего решил бы, что все это просто кошмарный сон.
Наконец поток машин медленно тронулся, и скоро мне уже удалось развить гигантскую скорость – больше десяти миль в час. Дорога прошла под железнодорожным переездом и снова поднялась, теперь уже непосредственно к университету.
Какие бы чувства я ни питал к альма-матер, в стенах которой довелось провести четыре нелегких года напряженной медицинской и научной муштры, все равно не могу не признаться, что величие этого места греет душу и тешит тщеславие. Причем оно отличается от величия Восточного побережья; здесь вовсе нет той готической и георгианской тяжести, которая так давит в Йеле или Гарварде. И тем не менее все здесь великолепно. Въезд на территорию университета, самую обширную в стране, отмечен двумя огромными арками из песчаника, открывающими длинную, тянущуюся на полмили пальмовую аллею. Пальмы эти подарил кто-то из богатых выпускников, любящих пускать пыль в глаза. Они поднимались, словно массивные колонны, увенчанные роскошными зелеными капителями. Ходили слухи, что каждое такое дерево стоит не меньше десяти тысяч долларов.
Я подъехал к медицинскому факультету и едва смог его узнать. Там, где в мою бытность зеленели лужайки, выросли два огромных здания, явно научного назначения. Даже снизу, с земли, были заметны полки, уставленные оборудованием и приборами. Сами здания, сложенные из темно-желтого песчаника, выглядели внушительно и бесстрастно. Впечатления от увиденного напомнили мне высказывание одного знаменитого историка искусства: приезжая в Нью-Йорк на Центральный вокзал, «человек входит в город, словно бог», а попадая туда через «Пенн-стейшн», он «прошмыгивает, словно крыса». Так что если арки из песчаника и обсаженные пальмами бульвары говорят о вашей близости к богам, то вот эти огромные медицинские лаборатории заставляют чувствовать себя крысой. Особенно если несколько лет назад эту крысу вышвырнули отсюда.
Как бы то ни было, мне кажется, дело заключалось не только в вызванном архитектурным величием комплексе неполноценности. Немалую роль играло сознание того, что подобные заведения не изменяются, остаются точно такими же, какими вы их покинули давным-давно. Особенно это относится к школам и колледжам. Поэтому больно видеть, что та дверь, за которой тебя рвало после вечеринки, сейчас превратилась в приличное заведение с охраняемым входом, а на месте тех кустов, в которых ты так славно веселился с девчонкой, теперь выросло новое здание. Университеты не помнят своих детей. И уж совершенно точно, что этот университет не помнил меня. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить.
Я посмотрел на часы. До встречи с доктором Тобел оставалось еще целых пятнадцать минут. Прекрасно сознавая, что больше сюда уже не попаду, я запер машину, засунул в парковочный счетчик несколько монет и направился к родному факультету.
Оказавшись внутри, я не узнал ровным счетом ничего. Исчезли длинные ряды бежевых шкафов, в которых мы запирали учебники и стетоскопы. Пропал огромный холодильник, где ленчи могли храниться неделями. Исчезли грязные, вонючие туалеты.
Я остановил девушку, на вид лет тринадцати, и спросил, где находятся аудитории.
– Вон там, – она показала сквозь стену, – рядом с административным зданием.
Значит, так давно обещанный новый учебный корпус все-таки построили. Я ощутил явный укол ностальгии, однако мою тоску по добрым старым классам прервал раздавшийся за спиной резкий голос:
– Натаниель? Натаниель Маккормик?
Я повернулся и увидел невысокую темноволосую женщину в длинном белом халате, карманы которого казались набитыми до отказа, – оттуда торчал стетоскоп, едва не вываливались ручки и всевозможные блокноты. «О Боже! – подумал я. – Только не сейчас. Да лучше и вообще никогда».
В животе у меня екнуло, и я начал лихорадочно перебирать в уме имена всех белых женщин, знакомых с ранней юности.
– Дженна Натансон.
Спасая меня от разговора, в котором я не смог бы ни разу назвать ее по имени, она сама протянула руку и назвала себя. Но с другой стороны, если я правильно помнил Дженну Натансон, разговор с ней не сулил ничего приятного. И какого черта меня сюда понесло? Сидел бы себе в машине.
– Привет, Дженна, – как можно любезнее поздоровался я. – Сколько лет, сколько зим!
– Да уж, давненько не виделись. Чем занимаешься? Что здесь делаешь?