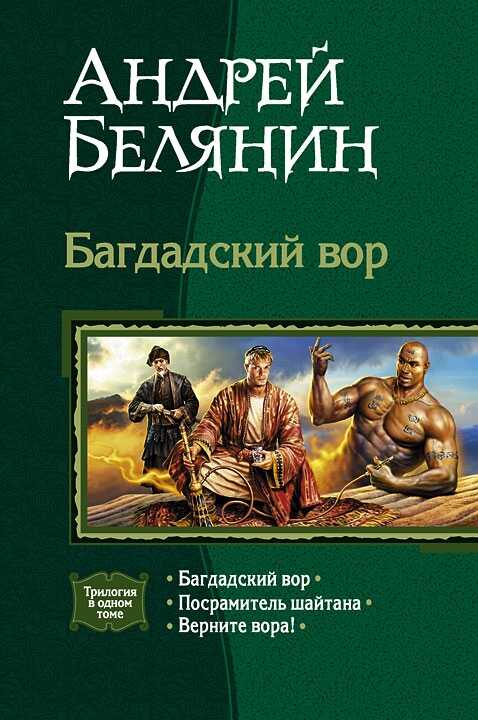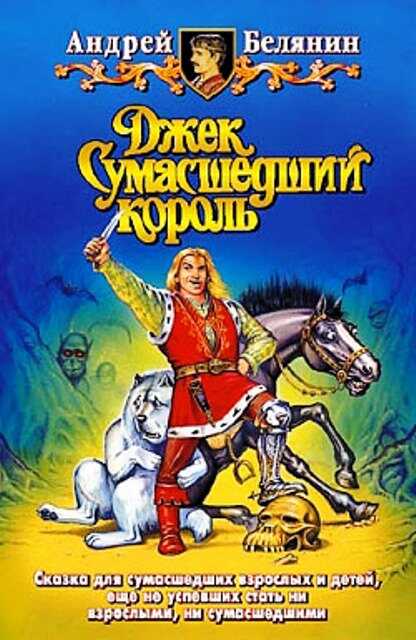и на берёзу лезть…
— Ладно, надолго не прощаемся. Ругаться на вас за подставу не буду, перегорело уже. А вот завтра ближе к вечеру жду на том же кладбище. Начнём поиски французского клада.
— Бывай, хорунжий. — Шлёма хлопнул меня по плечу. — Наше слово твёрдое, обещали порыться, так уж фуфелы разводить не станем, гнилыми отмазками не опозоримся. Верно я говорю?
Вместо ответа Моня молча обнял меня, как брата. Ну не вырываться же, я тоже по-приятельски похлопал его по спине и вздрогнул лишь тогда, когда почувствовал, что этот гад не намерен размыкать объятия. Дружеские руки вежливого и предупредительного упыря вдруг стали железным капканом, а острые крепкие зубы, лязгнув, нацелились на мою шею. Для драки не было манёвра, уклониться некуда, неожиданность коварного нападения просто ввела меня в ступор. Ей-богу, он бы загрыз меня, как курёнка, если бы не… Шлёма, с размаху шандарахнувший соратника случайным булыжником по маковке!
— Спа… спаси…бо, — кое-как прохрипел я, сбрасывая разом обмякшего Моню.
— Сам не пойму, чё на него нашло? Всегда тихушником был, за тя вон вечно заступался, а тут нате вам… Короче, шёл бы ты, Иловайский, а? Довольно тебе честных кровопийцев зазря искушать, ходит тут, весь аппетитный, кровь с молоком, аж слюнки текут…
* * *
Я кивнул и, не оборачиваясь, двинул по лестнице вверх. То есть не красивым размеренным шагом, а едва ли не галопом, практически перепрыгивая через две-три ступеньки. Не то чтобы так уж спешил убежать, просто это гнусное предательство напрочь перечеркнуло всё моё отношение к этой сладкой парочке. Ясно же, никогда нельзя доверять нечисти! Ни за что, ни при каких условиях! И кто? Моня! Вот уж от него-то воистину никак не ожидал…
Я вышел на площадку под могилой, легко нашёл железный рычаг, потянул, принажал плечом, тяжёлая плита подалась вверх, и я с наслаждением вдохнул всей грудью свежий ночной воздух. Ну наконец-то! И хоть до спящего села я дотопал почти к рассвету, зато по пути со мной совершенно ничего не случилось. Вот и рад бы соврать, а нет настроения. Никто на спину не бросался, из кустов не выскакивал, лунный свет не загораживал, в ухо не орал, хотя возможности были…
Явившись в расположение полка, я просто рухнул спать прямо на сеновале при конюшне и успешно продрых аж до обеда. Снов не было вообще, похоже, усталый организм так нуждался в отдыхе, что мозг просто отключился и не мотал мою пылкую душу по разноцветным мирам чудесных видений. Так-то, в обычном распорядке службы, сны посещают меня практически ежедневно, и какие сны! Яркие, волшебные, сказочные — про любовь, про заморские страны, про глубины морские, про людей с далёких звёзд… Да такие истории невероятные попадаются, хоть вставай поутру и с разбегу книгу пиши!
А дайте только срок, и займусь этим сочинительским делом непременно, потому что оно уж куда как спокойнее бешеных скачек по степям, долгих походов да героических войн за веру, царя и Отечество, от каковых мы, казаки, по общему убеждению прям-таки млеем…
Проснулся от божественного запаха гречневой каши, интимно щекотавшего мне нос. Даже ещё не раскрывая глаз, я потянулся, зевнул до ломоты в челюстях и поблагодарил:
— Спасибо, Прохор! Меня вчера никто не искал?
— Не-а, тока дядюшка ваш, ординарец его, чиновник тот патлатый, с рифмами, староста, бабы сельские, ну и я, грешный. А так вроде больше никто…
— Вот и ладушки. — Я встал, отряхнул налипшие соломинки и быстро сбегал во двор умыться, а уж потом и принял из рук заботливого денщика глиняную миску горячей каши.
— А ты?
— Да я-то ещё час назад отобедал, — Прохор улыбнулся в усы, — покуда кто-то тут храпака задавал знатного. Вы уж ешьте, ваше благородие, а я обскажу, чего нового на свете творится. Ну, во первых строках письма, не сойти мне с ума, ваш дядюшка будет, его кто забудет? Он в нервах с вечера, хотя вроде и не с чего… На всех срывается, зазря обзывается, в руках царёва игрушка, поди, и спит с ней под подушкой. А поэтик Чудасов с утра тарантасом прибыл да носом крутит, добрый люд мутит — Иловайского вынь да положь ему, болтуну скотоложьему! Ну и одна старуха, что глуха на ухо и на оба глаза слаба, как зараза, тоже тебя хочет, просит быть к ночи. Обещает счастие, любовные страсти да объятия жаркие, чёртова припарка, и…
— Прохор, тебя ещё не бьют за такое? — скромно перебил я, едва не подавившись остывшей кашей, потому что сразу всё представляю в лицах, а воображение у меня богатое.
— Пытались, конечно, да не словили, — самодовольно похвалился старый казак. — А тока, ежели по-серьёзному, дак ту корзинку с разной снедью, что вы нечистому батюшке скормили, как ни верти, но отрабатывать придётся. Ещё с утречка за забором народец столпился, все в ожидании, кто с надеждой, а кто и с вилами. Хоть на одну минуточку, да выйти к людям надобно. Тока дочавкай сперва, чтоб не на голодный желудок сдаваться.
Уф… Пожалуй, это то самое, от чего я и рад бы отбрыкаться руками-ногами, а куда денешься. Обещался — плати, иначе свои же за честь казачью по затылку накостыляют. И будут правы!
— Идём. — Я решительно отодвинул пустую миску, облизал ложку, со скрипом встал, поправил ремень, надел папаху и внутренне счёл себя готовым к самому худшему. В конце концов, не такие уж они там все и страшные…
— Коли Бог не попустит, так и бес не укусит, — легко поднялся вслед за мной верный денщик, заботливо сунув за голенище тяжёлую ногайскую плеть. Тоже правильно, если что пойдёт не так, он хотя бы прикроет моё тактическое отступление.
А за воротами нас терпеливо и без лишнего шума дожидалась довольно плотная толпа крестьян с напряжёнными и недоверчивым лицами. При виде меня все как-то воспрянули, приободрились и, видимо, даже обрадовались, что-де сбежать мне не удалось, а значит, и от задушевного разговора никак не отвертеться.
— Здорово дневали, люди добрые, — в привычной казачьей манере поприветствовал я сельский сход.
— Ты, что ль, Иловайский будешь? — без церемоний выкрикнул кто-то.
Я кивнул.
— Ну тады здорово, казачок, — уже более уверенно откликнулся народ.
— Чего хотели от меня, зачем звали?
— Да погадать же!
— Так я ж не цыган вроде…
— А ты посторайся, ежели обчество просит! — наставительно, с тем же оканьем, погрозил мне пальцем длиннобородый староста и весомо напомнил: — Тута денщик твой