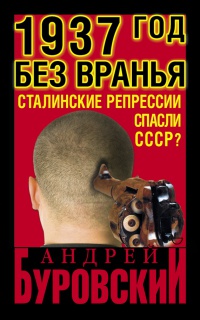На февральско-мартовском пленуме 1937 г. Хрущев обратил внимание присутствующих на объективные условия, в которых действует московская парторганизация: «По всей стране сейчас очень много людей, у которых что-нибудь да есть. Например, нет данных у человека для исключения, а его снимают. Совершенно правильно, и мы, московская организация, так же делаем, но я вот могу сейчас представить списки. […] Огромное количество таких людей. […] Сюда пролезают не только люди меченые, но и те, до которых еще не добрались. Товарищи, сюда также устремляются исключенные из партии люди. […] Человек на предприятии работает. Он семь часов отработал, там его знают, за ним следят, но это официальные семь часов. […] Он на службе за партийную линию, он на службе против врагов партии, он на словах борется, другой раз и на деле хочет показать себя, что он борется за линию партии, организует работу, выполняет план, а идет к себе домой, ведет подпольную контрреволюционную работу. […] И поэтому нужно найти силы для того, чтобы преодолеть эти условия и не давать возможности врагу укрываться в Москве, которая является столицей нашего Советского Союза» [574].
Эти слова первого секретаря МК не остались без последствий. 22 мая 1937 г. нарком внутренних дел Н.И. Ежов направил на имя Сталина проект постановления Политбюро о проведении специальных мероприятий в Москве, Ленинграде, Киеве к лицам, ранее исключенным из ВКП(б) за оппозиционные проявления, и членам их семей. Сопроводительное письмо на примере Москвы иллюстрировало ситуацию с данной категорией лиц. Из документа следовало, что в столице проживает более 4000 человек, исключенных из партии по обвинению в участии в оппозиции. Около 1150 человек из них не имело определенных занятий. В обстановке тотальной бдительности и постоянного недоверия к разоблаченным бывшим товарищам тех не везде решались принимать на работу. Из работающих были выделены группы людей, занимавших должности в различных областях народного хозяйства и учебно-культурных учреждениях (229 – военная промышленность, 138 – металлургия, 408 – учебно-культурные учреждения). Более 300 бывших ответственных работников советско-партийного, хозяйственного, профсоюзного аппарата, по мнению Ежова, могли «вдохновлять работу антисоветских элементов против партии». Отдельно письмо выделяло 2500 семей, члены которых были репрессированы по обвинениям в активной троцкистско-зиновьевской, террористической и шпионской деятельности. Ежов посчитал нужным подтвердить перед Сталиным слова Хрущева, высказанные пару месяцев назад: «Кроме того, наблюдается непрерывный приток из других городов и оседание в Москве большого количества лиц указанных категорий»[575].
Уже на следующий день представленный проект был утвержден. Согласно ему, все исключенные из ВКП(б) по обвинениям в принадлежности к оппозиции (троцкисты, зиновьевцы, правые, шляп-никовцы и др.) и за антисоветские проявления (выражение «враждебных взглядов в преподавании и печати») выселялись из Москвы, Ленинграда и Киева в административном порядке в непромышленные районы страны. Высылке подвергались также семьи оппозиционеров, участников антисоветских террористических, шпионских организаций, расстрелянных и приговоренных к лишению свободы на сроки более 5 лет. Старые кадровые рабочие, коренные жители Москвы, Ленинграда и Киева, ранее участвовавшие в оппозиции, но долгое время активно себя не проявлявшие, высылке не подвергались – за ними устанавливался строгий контроль. В целях предотвращения обратного въезда высланных и их семей органы милиции Москвы, Ленинграда и Киева прекращали прописку «всех подвергнутых настоящим санкциям» на срок выше 10 дней. Среди четырех человек, которым было разослано это решение Политбюро, значилась и фамилия Хрущева [576].
15 июня 1937 г. нарком Н.И. Ежов утвердил инструкцию о порядке подготовки и проведения операции по выселению в административном порядке лиц, исключенных из ВКП(б), семей репрессированных троцкистов, правых и прочих оппозиционеров. Помимо Москвы, Ленинграда и Киева, территория применения майского постановления Политбюро охватила Ростов, Таганрог, Сочи и прилегающие к нему районы. Сама операция должна была уложиться в два месяца: с 25 июня по 25 августа[577].
Инструкция определяла и место партийных органов в намеченной операции. На каждого выселяемого заводилось личное дело. Среди различных документов, предоставляемых НКВД, в него включалась выписка из решения партийного органа с указанием причин исключения из партии выселяемого, представленная и подписанная секретарем райкома ВКП(б) [578].
Несмотря на четко определенные инструкцией сроки, фактически процесс выселения начался раньше. Свидетельством тому является письмо старого большевика Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, написанное 15 июня 1937 г. на имя Сталина, в день подписания Ежовым инструкции по выселению. В Москве Бонч-Бруевич работал со времен Гражданской войны и в 1920 г. даже возглавлял особый строительно-санитарный комитет при Моссовете[579]. С 1933 г. он занимал должность директора Государственного литературного музея. Обратиться напрямую лично к Сталину (письму предшествовала особая преамбула, говорящая о личном, неофициальном характере: «Секретно. В собственные руки») побудила семейная трагедия. Его единственная дочь, Елена Владимировна – хирург-травматолог, работающая в столичной Басманной больнице, была замужем за Леопольдом Авербахом. После ареста последнего весной 1937 г. ее исключили из партии. Она надеялась добиться решения о восстановлении и ожидала разбора дела в райкоме. Но органы НКВД предложили ей выехать из Москвы 17 июня. Душевное состояние дочери Владимир Дмитриевич описал кратко и осторожно: «Эта высылка, конечно, крайне депрессивно-морально на нее и сына ее действует, хотя она бодра духом и говорит, что все выполнит, что решит партия и правительство». Заверяя вождя в ее невиновности («она была, есть и всегда будет твердой и последовательной большевичкой», «моя дочь – верная дочь партии и правительства»), он просил не высылать дочь с внуком, оставив ему на поруки. Среди прочего, Владимир Дмитриевич посчитал нужным написать: «Я самым внимательным образом буду наблюдать за всем ее поведением и образом мыслей, и верьте мне, дорогой Иосиф Виссарионович, что у меня не дрогнет рука привести в НКВД и дочь, и сына, и внука – если они хоть бы одним словом были бы настроены против партии и правительства. Самая суровая расправа, как я думаю, должна быть применена к каждому, кто только посмеет это сделать». Письмо было получено и перепечатано. Никаких резолюций рукою Сталина ни копия, ни подлинник не содержат, однако на первом листе машинописного экземпляра в верхнем левом поле имеется помета химическим карандашом «7.VII»[580]. Является ли это датой получения письма, или датой принятия какого-либо решения по данному вопросу – неизвестно.