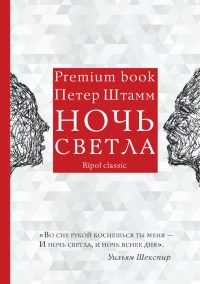Гибенрат! Хорошо тебе теперь.
Он удовлетворенно потянулся.
– Пожалуй.
– Когда в семинарию?
– Только в сентябре. Сейчас каникулы.
Пусть завидуют. Его даже не обидело, когда на заднем плане послышались смешки и кто-то пропел:
Мне б перинку Лисабеты,
Старостиной дочки!
Я бы тоже целый день
Полеживал, как кочка.
Он только посмеялся. Мальчишки между тем разделись. Один сразу же прыгнул в воду, другие сперва осторожно охладились, кое-кто прилег на траву. Потом восхищенно наблюдали за хорошим ныряльщиком. Коварно столкнули в воду трусоватого приятеля, и тот вопил благим матом. Все гонялись друг за другом, бегали и плавали, обливали водой тех, что сидели на берегу. Кругом шумный плеск да гомон, по всей реке блестели светлые, мокрые, гладкие тела.
Часом позже Ханс ушел. Наступили теплые вечерние часы, когда рыба снова хорошо клюет. До ужина он удил с моста, однако почти ничего не поймал. Рыбы алчно устремлялись к наживке, вмиг сжирали ее, только вот на крючок не попадались. Наживлял-то он вишни, очевидно слишком крупные и мягкие. «Лучше еще разок попытать счастья попозже», – решил он.
Как он узнал за ужином, множество знакомых приходили с поздравлениями. Еще ему показали сегодняшний выпуск еженедельной газеты, где под рубрикой «Официальные сообщения» было напечатано: «На приемный экзамен в теологическую семинарию нижней ступени наш город послал в этом году одного-единственного кандидата – Ханса Гибенрата. Мы только что с радостью узнали, что он выдержал испытания вторым».
Он сложил газету, сунул ее в карман и не сказал ни слова, но в глубине души его переполняли гордость и ликование. Потом он опять пошел удить рыбу. На сей раз прихватил для наживки несколько кусочков сыра; рыба любит сыр и в сумерках хорошо его видит.
Ореховую удочку он оставил дома, взял снасть попроще. Так ему нравилось рыбачить больше всего: просто держать в руке лесу без удилища, удочка состояла лишь из лесы и крючка. Удить этак труднее, но и намного веселее. Тут владеешь малейшим движением наживки, чувствуешь каждое к ней прикосновение, каждую поклевку и при подергивании лесы прямо воочию видишь перед собой рыбу. Конечно, в такой ловле требуются навык, ловкие пальцы и постоянная бдительность, как у шпиона.
В узкой, глубокой и извилистой речной долине сумерки наступали рано. Вода под мостом лежала черная и спокойная, на нижней мельнице уже засветили лампы. Разговоры и песни разносились по мостам и улочкам, в воздухе еще ощущалась духота, и в реке то и дело, ударив хвостом, выскакивала из воды темная рыба. В такие вечера рыбы странно взбудоражены, беспорядочно мечутся туда-сюда, выпрыгивают из воды, налетают на лесу и вслепую кидаются на наживку. К тому времени, когда сыр кончился, Ханс успел поймать четырех небольших карпов; завтра он отнесет их городскому пастору. Теплый ветерок пробежал вниз по долине. Быстро темнело, но небо пока было светлое. От всего темнеющего городка в светлую высь поднимались лишь резкие черные силуэты церковной колокольни и крыши замка. Где-то далеко явно разыгралась гроза, порой едва внятно доносился раскат отдаленного грома. В десять часов, укладываясь в постель, Ханс ощущал в голове и во всем теле приятную усталость и очень хотел спать, чего с ним давненько не бывало. Длинная череда чудесных, привольных летних дней успокоительно и заманчиво маячила впереди – дни для прогулок, купания, рыбалки, мечтаний. Огорчало его только одно – что он не стал самым первым.
Ранним утром Ханс со своим уловом уже стоял в передней дома городского пастора. Пастор вышел из кабинета:
– Ах, Ханс Гибенрат! Доброе утро! Поздравляю, от всей души поздравляю… Что это у тебя?
– Просто немного рыбы. Я вчера наловил.
– Ба, скажите пожалуйста! Большое спасибо. Да заходи же.
Ханс вошел в хорошо знакомый кабинет. Собственно, никак не скажешь, что это комната пастора. Здесь не пахло ни комнатными цветами, ни табаком. Изрядное книжное собрание почти сплошь демонстрировало новенькие, аккуратно отлакированные и золоченые корешки, а не потрепанные, покоробившиеся, изъеденные древоточцем, испещренные пятнами плесени тома, какие обыкновенно видишь в приходских библиотеках. Присмотревшийся обнаруживал здесь, в названиях расставленных по порядку книг, новый дух, иной, несравнимый с тем, что жил в старосветских священнослужителях уходящего поколения. Почтенные роскошные украшения приходских библиотек – Бенгель, Этингер, Штайнхофер[43] вкупе с благочестивыми поэтами, коих Мёрике[44] так замечательно воспевает во «Флюгере», – здесь отсутствовали или же тонули средь множества новых произведений. В общем и целом, вместе с журнальными папками, конторкой и большим, заваленным бумагами письменным столом, кабинет имел вид ученый и серьезный. Складывалось впечатление, что здесь много работают. И работали здесь действительно много, хотя не столько над проповедями, катехетикой и библейскими уроками, сколько над исследованиями и статьями для научных журналов и над подготовительными штудиями для собственных книг. Мечтательная мистика и провидческие размышления были отсюда изгнаны, как и наивное сердечное богословие, которое, преодолевая бездны науки, с любовью и состраданием склоняется к жаждущей народной душе. Здесь увлеченно предавались критике Библии и искали «исторического Христа».
Ведь в теологии дело обстоит так же, как и повсюду. Есть две теологии, одна – искусство, другая же – наука или, по крайней мере, стремится быть ею. Так повелось издревле, и всегда ученая братия, ухватясь за новые мехи, упускала старое вино, тогда как искусники, беспечно оставаясь в ином внешнем заблуждении, были для многих утешителями и дарителями радости. Такова давняя неравная борьба меж критикой и созиданием, наукой и искусством, причем первые всегда правы, хоть никому нет от этого проку, а вот вторые упорно вынашивают зерно веры, любви, утешения, красоты и предощущения вечности и вновь и вновь находят для себя плодородную почву. Ведь жизнь сильнее смерти, а вера могущественнее сомнения.
Впервые Ханс сидел на кожаном диванчике между конторкой и окном. Городской пастор был чрезвычайно приветлив. Совершенно по-дружески рассказывал о семинарии и о том, как там живут и учатся.
– Важнейшее из всего нового, что тебя там ждет, – сказал он в заключение, – это изучение греческого языка Нового Завета. Перед тобой откроется новый мир, полный трудов и радости. Вначале будет нелегко, ибо это уже не аттический греческий, а новый язык, созданный новым духом.
Ханс внимательно слушал, с гордостью чувствуя, что приблизился к подлинной науке.
– Школьное знакомство с этим новым миром, – продолжал городской пастор, – разумеется, отнимет у него толику волшебства. Да и древнееврейский в семинарии на первых порах, пожалуй, потребует от тебя усиленного внимания. Так что, если хочешь, мы могли бы сейчас, на каникулах, сделать первые шаги.